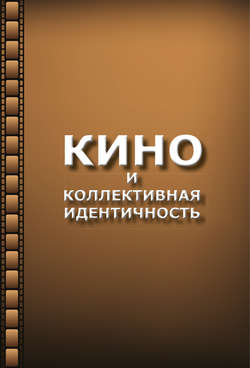Читать книгу Кино и коллективная идентичность - Владимир Жидков - Страница 8
Часть первая. Социальное регулирование кинопроцесса
Глава I. Механизмы социальной организации кинопроцесса
§ 4. Почему необходимо регулирование «сверху»?
ОглавлениеПосле произошедшего глубокого разочарования в реалиях «демократического централизма» мысль о том, что регулирование кинопроцесса «снизу» должно дополняться регулированием «сверху», может быть истолкована как некая ностальгия по прошлому. С другой стороны, эта мысль может показаться обоснованной лишь постольку, поскольку российское кино в глубоком кризисе и выбраться из него без помощи государства оно не может. Суть дела, однако, в другом. Необходимость регулирования «сверху» продиктована глубинной сущностью понятия «производство» применительно к кино.
В своей многогранной цельности процесс производства средствами кино выходит за пределы создания фильма на киностудии. Обращаясь к размышлениям на эту тему, зададимся вопросом: не является ли производством фильма и та работа, что связана с его тиражированием и демонстрацией на экранах кинотеатров? Вопрос, пожалуй, риторический. Ведь что же, как не фильм, видит зритель на экране? Но если так, то границы «производства» раздвигаются настолько, что в их пределах оказывается деятельность кинопроката и киносети.
Эти границы тоже не окончательны. За пределами «производства» средствами кино, по логике вещей, нельзя оставить такую реальность, как проецирование кинообразов с одного экрана, кинотеатрального, на другой – экран зрительского сознания. В самом деле, фильм на экране кинотеатра – реальность физическая, это игра света и тени, цвета и движения. Это множество кинематографических знаков, в которых закодированы определенные значения. Свою расшифровку они могут получить только в зрительском сознании. Когда экранная «светопись» одухотворяется чувством и воображением, фильм обретает новую бытийную форму – ментально-зрительскую. Наконец массовое воображение зрителей в подлинном смысле «производит» фильм еще и как общественное явление. Поэтому традиционное узкое понимание границ реальности, охватываемой понятием «производство средствами кино», должно быть расширено. В эти границы должна попасть и сфера зрительского освоения киноискусства, то есть потребительное производство.
Обозначенный перенос границ – отнюдь не игра с понятиями. Признав, к примеру, что создание авторского фильма и его зрительское освоение образуют две разные грани одного и того же, целостного – общественного по своей сути – процесса производства в разных ипостасях его реального бытия, мы неизбежно обнаружим существенный момент относительности, заключенный в принципе художнического самовыражения, экранного монолога, столь влиятельного в теории и практике российского кино. Мы должны будем с особым уважением отнестись к творческому потенциалу того автора, о котором можно сказать брехтовскими словами: «Он думал в головах других, другие думали в его голове». Зрительское сознание не только активно творит фильм, но и «записывает» свое творение, хранит его в памяти, отчего оно обретает способность определенного мотивационного воздействия на социальное поведение индивида. Как символическая экранная реальность фильм, тем самым, в превращенной форме инкорпорируется в ткань общества. В границах «производства», как видим, оказывается и то, что является «персонификацией фильма». Производство фильма, в конечном счете, оказывается не чем иным, как производством самого человека. И в этом суть проблемы, связанной с пониманием места и роли кино в обществе. Ибо когда речь идет о потреблении духовной пищи, человек воистину есть то, что он ест.
Последовательно двигаясь к самым дальним границам пространства, охватываемого понятием «производство средствами кино», мы пришли к идее о «двух видах производства» (К. Маркс). В первом, как выразился классик, производитель себя опредмечивает, во втором – персонифицируется произведенная им вещь. В пространстве кинематографической жизни общества этими двумя видами производства будут взаимопроникающие процессы производства фильма (прочих кинематографических услуг тоже) и производства человека. Конечный результат – производство социума как общности, которой в современном глобальном мире свойственна определенная степень прочности, являющейся стержнем государственного суверенитета.
Итак, в области кино мы имеем дело с производством не только фильма и человека, но также и производством общества. К регулированию этого процесса имеют прямое отношение многие социальные институты, в том числе и государство, являющееся органом выражения воли общества в целом. Спрашивается, может ли государство полностью отказаться от регулирования кинопроцесса, если в его рамках воспроизводится само общество, на котором оно, государство, зиждется, на страже интересов которого стоит?
Трудно найти логические основания для полного отказа государства от участия в делах кинематографии, от процессов увязки и согласования «двух видов производства». Да и подлинная проблема в другом – в пределах и характере регулирования «сверху».
Можно назвать три модели регулирования взаимодействия «двух видов производства» в сфере кино: авторитарная, рыночная (хозрасчетная, как говорили раньше) и общественно-расчетная, подлинно демократическая. В любом случае предпринимаемые усилия внешне направлены, прежде всего, на регулирование производства и распространения фильмов. Но, в конечном счете, речь идет о регулировании производства человека и общества средствами кино. Если конечный результат упускается из виду, то и сугубо меценатская помощь государства кинематографии может быть истолкована как вмешательство в дела искусства. Разумеется, непосредственно в художественный процесс государство не должно вторгаться. Объект его действий – «правила игры» и ее условия.
Сегодня, когда псевдорынок дал себя знать многочисленными негативными последствиями, и в условиях глобализации кинематографического процесса стало совершенно очевидно, что выживание и возрождение российского кино требует регулирования его и «сверху», с особой остротой встает вопрос о содержании такого регулирования, его идеологии.
Впрочем, важно и то, насколько кинематографическое сообщество психологически готово к признанию правомерности регулирования «сверху». Как отмечалось выше, сама мысль, о его необходимости, может быть воспринята как ностальгия по прошлому. Показательна в этом отношении политическая двойственность в реакции кинематографического сообщества на решения государства относительно новых «правил игры» в «перестроечное» прошлое.
Изначально обновлению общества было задано некое тройственное – и можно сказать, типовое – направление: демократизация, гласность, хозрасчет. На эти маяки сразу же, словно по команде, взял курс революционно настроенный кинематографический корабль, руководимый новыми лидерами CK СССР. Цели и новые социально-организационные формы, их последствия не были должным образом взвешены, соотнесены и увязаны. Позже такой подход в работе правления CK СССР обрел форму «аппаратчины», критикуя которую В. Абдрашитов сетовал: Главное – необходимо как бы принять решение, а затем внедрять его, не вникая ни во что. Потому что главное для нас – политический аспект решения. В стране только заговорили о хозрасчете – тот самый передовой союз, конечно, первым должен громогласно заявить о переходе на хозрасчет. «Последствия для аппаратчины – это частности. Главное – политический аспект» [11].
Приняв установку на демократизацию, гласность и хозрасчет как руководство к действию, лидеры Союза кинематографистов СССР пытались в то же время проинтерпретировать ее таким образом, чтобы кино дистанцировалось от проблем, которым озабочено общество и государство. Идеологической платформой киноперестройки явилось постановление Совета Министров СССР «О перестройке творческой, организационной и экономической деятельности в советской кинематографии» от 18 ноября 1989 г.
Оглашая это постановление Совмина на IX пленуме правления CK СССР, его секретарь А. Смирнов заметил: «Все-таки осталась «общественная значимость», как я не выживал ее из текста». Этот импровизированный комментарий адресовался той части правительственного постановления, где говорилось о необходимости утвердить порядок установления дифференцированных нормативов отчислений в бюджет от прибыли (дохода) кино- и видеозрелищных предприятий, организаций и учреждений в зависимости от вида и качества кинообслуживания, а также общественной значимости и идейно-художественной ценности демонстрируемых произведений. Спрашивается, почему критерий «общественной значимости» вызывал возражения?
Отчасти объясняется это, надо полагать, своеобразным, не совсем корректным толкованием понятия общественной значимости. В только что приведенной ссылке на постановление Совета Министров СССР разделительным союзом «и» от нее отъединена «идейно-художественная ценность» произведения. Но ведь обладающий теми или иными идейно-художественными качествами фильм является ценностью лишь постольку, поскольку он положительно значим для людей, для общества. Значит, в самой констатации идейно-художественной ценности фильма уже заключено признание его общественной значимости. Признание того, что фильм являет собой определенное художественное достижение общества, что он вносит определенный вклад в самопознание социума. Разъятие двух понятий правомерно в тех случаях, когда «общественная значимость» берется не в ее объективной данности, а в виде бюрократически искаженных интерпретаций «социального заказа».
Слов нет, такие понятия, как «социальный заказ», «общественная значимость кино» и т. д., т. е. традиционный концептуальный аппарат внекинематографической оценки экранного искусства, социального контроля за производством и распространением фильмов был деформирован неправедным употреблением в контексте административно-командной системы социализма. Но нельзя не видеть того, что обойтись без этих критериев общество не может. В конце концов, даже святое призвание истинного художника быть совестью общества есть не что иное, как поставленный перед ним социальный заказ, а всевозможные проявления позитивной действенности кинематографа попадают все-таки под категорию его общественной значимости, выражают его КПД. Самое разумное, что здесь можно предпринять – это очищение деформированных, искаженных критериев от всех наслоений вульгарно-социологического и командно-бюрократического толка. Выплескивание ребенка вместе с водой – другая, не менее ошибочная, крайность. И она-то как раз, похоже, проявилась в цитированном выше комментарии.
Этот комментарий примечателен также как напоминание о том, что сложившаяся в советский период система регулирования кинопроцесса была уязвима в вопросах выработки и реализации кинематографической политики, нацеленной на повышение общественной – взятой в широком, исчерпывающем смысле – значимости кино. Той самой значимости, необходимость максимального обеспечения которой, если подходить к вопросу реалистично, является одновременно отправной посылкой и конечной целью сознательного регулирования социумом своей кинематографической жизни. Сегодня уместно говорить, как минимум, о том ее сегменте, который финансово поддерживается государством и которое, согласно В. Путину, «должно определить, на какие цели, прежде всего, должны быть направлены средства» [12, с. 12]. В общем виде цели, собственно, официально определяются тремя словами: «социально значимые фильмы». Вопрос заключается в конкретизации этой формулировки. В противном случае государственная кинополитика реально будет направлена на решение ряда частных вопросов как бы в обход уяснения вопросов общего порядка. Такая тенденция довольно четко обозначилась в процессе дискуссий на V всероссийской конференции, посвященной выработке стратегии развития российской киноиндустрии на период до 2020 года. И здесь прозвучала вполне обоснованная мысль: «Некому государству объяснить… эти простые вещи, что такое социально значимое кино» [13].