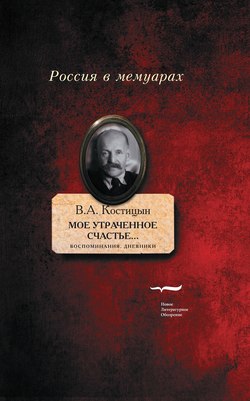Читать книгу «Мое утраченное счастье…» Воспоминания, дневники - Владимир Костицын - Страница 2
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Том I
Профессор-невозвращенец, или записки советского патриота
ОглавлениеПубликуемые ниже воспоминания и записи из дневников Владимира Александровича Костицына (1883–1963) интересны уже самой личностью мемуариста: талантливый математик, астрофизик, геофизик, один из основоположников теоретической экологии,[1] удостоенный в 1942 г. премии Парижской академии наук за работы по математической биологии,[2] он не принадлежал к числу научных затворников и участвовал во многих исторических событиях как в России, так и во Франции, где прожил в общей сложности более сорока лет.
Выходец из разночинской интеллигентной семьи, сын учителя, который более четверти века преподавал русский язык в реальном училище в Смоленске и дослужился до чина статского советника, Костицын, окончив в 1902 г. гимназию, поступил на физико-математический факультет Московского университета, где, как и его товарищ, будущий академик Н. Н. Лузин, вместе с которым снимал комнату на Арбате, стал одним из первых и ближайших учеников выдающегося математика Д. Ф. Егорова. Но, в отличие от сторонившегося политики Лузина, избравшего сугубо научную карьеру (и снискавшего славу блестящего педагога, руководителя московской школы теории функций), деятельный, искавший правду и готовый за нее бороться Костицын еще гимназистом увлекся революционными идеями и, вступив в конце 1904 г. в Российскую социал-демократическую рабочую партию, благодаря своему боевому темпераменту неожиданно для себя оказался во главе университетской студенческой дружины.
Активный участник подготовки и проведения Декабрьского восстания 1905 г. в Москве, схваченный на Пресне и лишь чудом спасшийся от расстрела, и затем боевой организатор в Замоскворечье, Костицын прошел через испытания, закалившие его характер. Формируя, вооружая и обучая революционные дружины, устраивая побеги арестованным и многократно сам выскальзывая из полицейских «ловушек», недоучившийся студент распоряжался судьбами доверившихся ему подпольщиков, что, безусловно, требовало колоссальных душевных сил и возлагало на юношу большую моральную ответственность, а постоянная опасность, риск быть преданным, арестованным и борьба с провокаторами накладывали определенный отпечаток на психику.
Уже в августе 1906 г. Костицын был назначен ответственным боевым организатором Москвы и, делегированный в ноябре на Первую конференцию военных и боевых организаций РСДРП в Таммерфорсе, вошел в состав их руководящего бюро, в котором с апреля 1907 г. замещал председателя – Е. М. Ярославского (впоследствии – видного партийного функционера). Но, вернувшись 1 июня из Выборга, куда ездил для конспиративной встречи с другим членом бюро – М. А. Трилиссером (будущим начальником Иностранного отдела ОГПУ), Костицын прямо на вокзале был арестован. С огорчением узнав об этом, Д. Ф. Егоров написал ректору: «Я лично знаю Костицына как выдающегося студента, весьма талантливого и преданного науке. Нельзя ли что-нибудь сделать для облегчения его участи?»[3] Привлеченный по делу Боевой организации при Петербургском комитете РСДРП, Костицын провел в тюремной одиночке в «Крестах» более полутора лет, но за недостаточностью улик 13 ноября 1908 г. был оправдан, после чего поспешил уехать за границу. Вместе с ним покинула Россию и его жена – Серафима Ивановна Надеина, фельдшер, которая тоже состояла в большевистской фракции и, выпущенная в июле под залог до суда из петербургского Дома предварительного заключения, скрылась и была заочно приговорена к заключению в крепости сроком на один год.
Сначала Костицыны жили в Вене, а в августе 1909 г. перебрались в Париж, где вскоре поселились на одной квартире с большевичкой Р. С. Землячкой (получившей печальную известность во время Гражданской войны благодаря массовым расстрелам в Крыму). Тогда же в Париже возобновилось знакомство с В. И. Лениным (впервые Костицын встретился с ним еще в марте 1906 г. на заседании партийного комитета в Замоскворечье). Они вместе ходили на первомайскую манифестацию, а летом отправились на отдых на побережье Бискайского залива, где Ильичу, вспоминала Н. К. Крупская, очень понравилось, и он «весело болтал о всякой всячине с Костицыными»,[4] у которых и «кормились».[5] Ленин в 1911 г. предлагал Костицыну войти в состав большевистского ЦК, но тот отказался: политике он предпочел науку.
Окончив в 1912 г. Сорбонну со степенью лиценциата (licencié ès sciences mathématiques), Костицын сразу же заявил о себе работами по системам ортогональных функций, напечатанными в «Математическом сборнике» Московского математического общества[6] и «Еженедельных отчетах о заседаниях [Парижской] Академии наук»: сообщение начинающего русского ученого представлял маститый французский математик Эмиль Пикар.[7] Костицын вел переписку с Егоровым, и в послании Лузину от 30 июня 1913 г. тот искренне сокрушался: «Досадно, что В. А. Костицын потерял свой результат! Доказат[ельст]ва Hobson-а я еще не видал <…>; интересно бы знать доказательство В. А.».[8] Егоров имел в виду теорему, опубликованную профессором Кембриджского университета Э. У. Гобсоном, который опередил Костицына. Но вскоре Костицын увлекся математическим решением задач, связанных с астрофизикой, и в 1916 г. во французских научных журналах были напечатаны еще две его статьи: в «Астрономическом бюллетене» – «О распределении звезд в шарообразных звездных скоплениях» и в «Еженедельных отчетах о заседаниях Академии наук» – «О периодичности солнечной активности и влиянии планет».[9]
Идейный разрыв вчерашнего боевика с его прежними единомышленниками-ленинцами произошел в 1914 г., когда в связи с началом Первой мировой войны Костицын оказался в рядах «оборонцев», сторонников защиты отечества, которых их оппоненты-«интернационалисты» презрительно называли «социал-патриотами». В ноябре 1915 г. жена Костицына скончалась от скоротечной чахотки, и, мобилизованный в августе 1916 г. в армию, он вернулся в Россию, где после недолгого пребывания в запасном батальоне в Гатчине был направлен на офицерские теоретические курсы авиации при Петроградском политехническом институте в Лесном.
После свержения монархии властный, умеющий брать на себя ответственность Костицын немедленно организовал районную милицию и был назначен временно командующим войсками на территории, примыкающей к финляндской границе. Тогда же он вошел в состав Временного организационного комитета, а затем и ЦК «революционно-оборонческой» группы «Единство», ненадолго ставшей пристанищем как для правых меньшевиков из числа многолетних сподвижников возглавлявшего ее Г. В. Плеханова, так и для нескольких бывших большевиков, разошедшихся с ленинцами. Произведенный в марте 1917 г. в прапорщики и оставленный на офицерских курсах в качестве преподавателя аэромеханики, Костицын в августе получил должность помощника военного комиссара Временного правительства при главнокомандующем армиями Юго-Западного фронта. Считая себя защитником «революционной демократии» от ее врагов как справа, так и слева, он лично арестовал А. И. Деникина и других генералов-корниловцев, а в дни Октябрьского переворота, проявив присущие ему энергию и решительность, жесткими мерами, вплоть до применения артиллерии, сурово подавил большевистское восстание в Виннице.
Но Временное правительство пало, и объявленный «вне закона» и вынужденный скрываться Костицын, не желая оказаться в стане реакции, решил при первой возможности «войти в советскую работу». В этом ему помог товарищ по политэмиграции, назначенный Совнаркомом чрезвычайным уполномоченным по эвакуации, – большевик М. К. Владимиров, по рекомендации которого 6 мая 1918 г. Костицын был принят на должность управляющего делами Всероссийской эвакуационной комиссии. Хотя его служебное положение было еще очень неустойчиво, он не побоялся напомнить о себе председателю Совнаркома, обращаясь к которому в июле через Крупскую, попросил об освобождении, под свое поручительство, их общего знакомого – одного из самых яростных хулителей Ленина как «германского шпиона», тоже бывшего большевика и члена группы «Единство», Г. А. Алексинского. Возмущаясь «содержанием в тюрьме человека умирающего, против которого нельзя выставить иных обвинений, кроме выступлений против большевиков тогда, когда они еще не были у власти», Костицын с упреком писал Ленину: «Ведь много говорили о великодушии пролетариата, и вот рабочая и крестьянская власть выказывает себя жестокой, а главное – бессмысленно и бесполезно жестокой, что не прощается никому и никогда». На его послании – ленинская пометка: «Это письмо Костицына, плехановца, но человека честного».[10]
В январе – октябре 1919 г. Костицын состоял управляющим делами транспортно-материального отдела Высшего совета народного хозяйства (ВСНХ), но, возобновив свои научные занятия, он уже в мае был избран преподавателем по кафедре чистой математики 1-го МГУ, а в июне введен в Государственный ученый совет при Наркомате просвещения РСФСР. Тем же летом Костицын нашел свое счастье: его женой стала выпускница экономического отделения Московского коммерческого института 23-летняя Юлия Ивановна Гринберг – дочь бывшего купца 2-й гильдии, из обрусевших немцев, который заведовал товарным (хлопковым) отделом Сибирского торгового банка, а после большевистского переворота, ареста и конфискации всех капиталов поступил на службу во Всероссийскую эвакуационную комиссию. Юлия Ивановна, работавшая там же в секретариате, была на тринадцать лет моложе Костицына (но, по иронии судьбы, умерла на тринадцать лет раньше!) и шутливо сравнивала мужа, который ее страстно любил, с «профессором Челленджером», находя у него, видимо, некоторое сходство с известным героем приключенческих романов Артура Конан Дойла – бывалым и самоуверенным ученым-энциклопедистом, забиякой и грубияном.
Административная и преподавательская нагрузка Костицына быстро увеличивалась: помимо работы в Государственном ученом совете, он – член коллегий Научно-технического отдела ВСНХ, научно-популярного отдела Госиздата и отдела научной литературы Наркомпроса, заведующий Государственным техническим издательством, член Особой комиссии по изучению Курской магнитной аномалии, профессор Коммунистического университета им. Я. М. Свердлова, товарищ декана физико-математического факультета 1-го МГУ, организатор научных институтов (астрофизического, геофизического, математики и механики, научной методологии) и… нашумевшей «профессорской забастовки»,[11] которому в самый критический ее момент передали «привет и сочувствие от Сталина»,[12] – вот лишь пунктирно деятельность Костицына в тот бурный и достаточно противоречивый отрезок жизни, который он описывает в автобиографии и воспоминаниях о «военно-коммунистической» России.
С августа 1922 г. Костицын исполнял обязанности декана физико-математического факультета 1-го МГУ, замещая другого «забастовщика» – арестованного и высланного за границу астронома В. В. Стратонова, который, несмотря на их «добрые отношения», в написанных в эмиграции мемуарах упрекал бывшего заместителя, что он «как-то всегда не шел до конца», «все время колебался в не вполне устойчивом равновесии». Стратонов пояснял, что «способный математик и также теоретик-астроном», который в Париже «усердно занимался» и «свел хорошие личные знакомства с выдающимися французскими математиками», Костицын приехал в Москву из Петрограда, где «скрывался под чужой фамилией». Хотя в дни Октябрьского переворота 1917 г. он «был единственный, который одержал над большевиками победу», тем не менее ему удалось получить «амнистию» и поступить в университет на должность преподавателя. Но так как по своей прежней деятельности Костицын был «хорошо знаком почти со всеми лидерами большевизма», он «стал участвовать в качестве “своего” специалиста в разного рода советских начинаниях, связанных с физикой и математикой». В университете Костицын был еще «мало заметен, хотя московские математики и относились к нему хорошо». Стратонов отмечал, в частности: «…когда я прибегал к содействию его связей в разных делах, он неизменно оказывал мне существенную помощь. Поэтому я стал его выдвигать, между прочим проведя и на должность товарища декана».
«Мы, – писал Стратонов, – проработали с В. А. Костицыным в деканате почти два года, и после этой работы, и до сих пор, сохранили хорошие взаимные отношения. Я придерживался политики интенсивной защиты университета и науки вообще, а за собой я имел все время почти весь факультет, за исключением трусов по природе и еще решившихся пресмыкаться перед властью. Костицын разделял эту политику, однако – не до конца. Не раз случалось, что борьбу начинали вместе, шли рядом… А потом как-то вдруг я оставался один, Костицын же был позади, иной же раз даже с легкой оппозицией мне в том, что мы начали совместно и по обоюдному согласию. Это свойство В[ладимира] А[лександровича] мало кому было заметно и известно, но искренним доверием профессуры за свое прошлое Костицын все же не пользовался. С другой стороны, и коммунисты не прощали полностью Костицыну прошлого, когда он покинул их ряды и даже выступал против них. Были университетские собрания, на которых из рядов “красных профессоров” – коммунистов кричали: “Костицын! Вы – ренегат!..”»[13]
Но, оказавшись в двусмысленном положении «своего среди чужих, чужого среди своих» (как, впрочем, и другие представители левой интеллигенции, не во всем согласные или вовсе несогласные с ленинцами), вчерашний большевик отвечал своим критикам: «Ренегат тот, кто присоединяется к партии после того, как она завоевала власть, а я, наоборот, отдав партии годы борьбы, годы тюрьмы и эмиграции, не гонюсь ни за властью, ни за почетом <…>» (т. 1, с. 235). И хотя Стратонов жаловался, что Костицын «всегда не шел до конца» – «только до полпути»,[14] считая это едва ли не дефектом его характера, тот был далеко не робкого десятка, «находил в себе смелость возражать» (т. 2, с. 173) и, не страдая отсутствием мужества, ради дела готов был «сцепиться» (любимое выражение профессора!) с кем угодно из большевистских сановников.
Костицын «делал, что мог», оправдывал его академик В. И. Вернадский, «во всяком случае, с ним можно было говорить, и у него были большие коммунистические связи»,[15] хотя, являясь «когда-то persona grata в советской среде, “старым” эмигрантом, левым», понятно, и «шел на всякие уступки».[16] Но, в отличие от «старорежимных» профессоров (например, того же Стратонова), относившихся к ленинским «узурпаторам» если и не откровенно враждебно, то по крайней мере оппозиционно, Костицын никогда не отказывался от своего революционного прошлого и, критикуя изъяны большевистской политики, относился к советской власти вполне сочувственно. Изголодавшись по «созидательной работе», он с радостью отдавал «свои силы и свой труд» новой России,[17] но хотел, чтобы «это было не зря и не впустую» (т. 1, с. 235). Именно поэтому в январе – феврале 1922 г. Костицын стал одним из инициаторов и руководителей профессорской забастовки, едва не закончившейся для него высылкой за границу, и, не страдая чинопочитанием, постоянно «воевал» с начальством.
В связи с арестом Стратонова, по предписанию ГПУ подлежавшего немедленному увольнению со службы, 24 августа правление 1-го МГУ поручило Костицыну временно исполнять обязанности декана.[18] На заседании факультета 13 сентября последовала лаконичная резолюция: «Принять к сведению»,[19] а на проходивших в декабре организационных собраниях кандидатуру Костицына поддержали 14 из 15 предметных комиссий (на каждой кафедре существовала своя);[20] за альтернативную кандидатуру астронома С. Н. Блажко высказалась только одна – по кафедре физики. Оба кандидата и секретарь деканата В. А. Карчагин выдвигались также в президиум факультета, но с этим не согласились представители «красного студенчества», заявившие, что выборы проходили «под давлением решения предварительного частного совещания профессорской курии», организации которого содействовал Костицын. Собравшийся 18 декабря пленум студенческих фракций предметных комиссий отвел кандидатуры Костицына и Карчагина, мотивируя это тем, что они «всячески тормозили» проведение в жизнь Положения о высших учебных заведениях, которое утвердил Совнарком, «соответствующими выступлениями в профессорской и преподавательской курии, оказывая давление на инакомыслящих», и не заботились о «рабоче-крестьянском составе студенчества» и «классовом приеме», напротив, «было сделано все, чтобы эта задача не осуществилась». Пленум «от имени всего студенчества» потребовал не утверждать предложенный список и назначить перевыборы.[21]
20 декабря Костицын направил для утверждения в правление 1-го МГУ списки кандидатов, избранных кафедрами на пост декана и в бюро предметных комиссий, президиум и совет факультета, но ректор, новоиспеченный коммунист В. П. Волгин, с которым профессор тоже не раз «сцеплялся» по разным вопросам, горячо убеждал его: «Владимир Александрович, я хорошо знаю, что вы – не реакционер, не враг, но в качестве декана физико-математического факультета вы невозможны: у вас всегда есть принципиальные возражения, и часто мы не знаем, как вам ответить <…>» (т. 2, с. 169). Действительно, выступая 22 декабря в прениях на заседании Совета 1-го МГУ, Костицын вновь говорил, что считает положение «катастрофическим», ибо «здания университета рушатся», отопление «крайне недостаточно», «библиотека не имеет новых книг и журналов», штатное содержание не покрывает минимальных расходов, и «все это крайне неблагоприятно отражается на здоровье и жизни профессоров и прочих служащих, преждевременно гибнущих в условиях полуголодного существования».[22] Неудивительно, что после «ряда переговоров с властью» кандидатура неудобного профессора не прошла,[23] но потребовалось еще почти два месяца, прежде чем 15 февраля 1923 г. ректор с явным для себя облегчением наложил резолюцию на присланных ему списках: «Ввиду отказа кандидатов, намеченных предметными комиссиями в деканы и члены президиума факультета (С. Н. Блажко, В. А. Костицына и В. А. Карчагина), предложить предметным комиссиям в недельный срок произвести выборы новых кандидатов».[24]
Впрочем, уже 21 февраля состоялось заседание предметной комиссии по кафедре математики, на котором председателем ее бюро был избран профессор Егоров, а его заместителем – Костицын (работавший с учителем в редакции «Математического сборника» и в Институте математики и механики в качестве ученого секретаря).[25] Но при перевыборах весной 1924 г. повторилась старая история – вмешалась «пролетарская молодежь»: заслушав 6 марта представление президиума факультета об избрании бюро предметной комиссии по кафедре математики в составе Егорова (председатель), Костицына (зам. председателя) и В. В. Степанова (секретарь), правление 1-го МГУ поручило им временное исполнение своих обязанностей впредь до рассмотрения «заявленного представителями студентов протеста». А уже 3 апреля был утвержден новый состав бюро вместо «отказавшихся» от своих должностей Егорова и Костицына.[26]
Отношения с «красным студенчеством» явно не складывались, но впереди профессора ждал очередной, почти головокружительный карьерный взлет, которому предшествовало его зачисление с 1 октября 1925 г. на должность научного сотрудника по физико-математическим дисциплинам в научный отдел Главного управления научными, музейными и научно-художественными учреждениями Наркомата просвещения РСФСР (в заполненной тогда же анкете Костицын сообщал, что работает в Московском университете «в качестве действительного члена и члена коллегии Института математики и механики, в Государственном геофизическом институте – в качестве вице-директора» и «в Государственном астрофизическом институте – членом президиума»). А уже 7 января 1926 г. коллегия Наркомпроса утвердила Костицына заведующим научным отделом Главнауки.[27] По сути, на него возлагалось руководство всеми научными организациями РСФСР, а в подчинении Главнауки находились тогда 76 институтов и академий, 61 учреждение исследовательского характера, 10 научно-академических библиотек и Государственная центральная книжная палата. Одновременно Костицын был введен в редколлегию журнала «Научный работник» (являвшегося органом центрального совета секции научных работников Союза работников просвещения СССР), в состав которой входили также В. П. Волгин, П. П. Лазарев, С. Ф. Ольденбург, М. Н. Покровский, О. Ю. Шмидт и другие.
Но этим продвижение по административной лестнице не ограничилось, и 16 сентября 1926 г. правление 1-го МГУ рассмотрело представление деканата физико-математического факультета «об объединении Геофизического института с Метеорологической обсерваторией под общим названием Геофизического института и о назначении заведующим таковым профессора В. А. Костицына».[28] Помимо этого он уже являлся директором, председателем правления и ученого совета Государственного научно-исследовательского геофизического института (ГНИГИ), включавшего три обсерватории – метеорологическую в Москве и аэрологическую и геофизическую в Кучине, а также отдел по разработке «вопросов теоретической геофизики и прикладной математики в ее геофизических приложениях», которым сам и заведовал.[29] А 29 сентября Костицына избрали председателем бюро предметной комиссии по кафедре геофизики 1-го МГУ, вследствие чего он выбыл из математической предметной комиссии, в которой как «представитель уклона прикладной математики» был заменен с 8 декабря Лузиным.[30]
Тем не менее на 1926–27 учебный год Костицыну еще поручили ведение семинариев по дифференциальным уравнениям (вместе с Егоровым и Степановым), дифференциальным и интегральным уравнениям (с Егоровым) и прикладной математике (с Л. С. Лейбензоном), а также чтение лекций по приближенному интегрированию дифференциальных и применению интегральных уравнений.[31] 30 марта 1927 г. математическая предметная комиссия решила вновь «просить» Костицына в очередном, 1927–28 учебном году читать курс лекций по применению интегральных уравнений и вести семинарий по прикладной математике (вместе со Степановым и Лейбензоном).[32] Профессор вошел также в оргбюро Всероссийского съезда математиков, проходившего в Москве 27 апреля – 4 мая 1927 г., а на университетском совещании по «прикладному уклону», созванном 17 января 1928 г., отмечалось, что в математике «сближение и ориентировку на геофизику и метеорологию осуществляет В. А. Костицын».[33] Помимо этого, он по-прежнему состоял ученым секретарем в Институте математики и механики 1-го МГУ и заведующим отделом теоретической астрофизики в Государственном астрофизическом институте[34] (в котором вел направление по «изучению строения звездных скоплений и спиральных туманностей»[35]), членом редколлегий «Математического сборника» и «Русского астрономического журнала».
Заняв ответственную должность в Наркомате просвещения РСФСР, Костицын рьяно отстаивал ведомственные интересы, о чем свидетельствует, например, его письмо от 11 декабря 1926 г. Вернадскому, который ходатайствовал о подчинении Радиевого института непосредственно Академии наук СССР. Категорически отвергая ее претензии на «руководящую роль», обвиняя Академию в архаичности, «старческом эгоизме», «вымогательстве» и заинтересованности в «удушении» опасных московских «конкурентов», Костицын напоминал, что «во Франции государство ревниво оберегает свои права контроля над высшей школой и научными учреждениями», и это тем более необходимо в СССР: «К сожалению, если за нашими учреждениями и работниками не досмотрят, они в состоянии, даже без особенной нужды, перервать друг другу глотку. Поэтому не ругайте бюрократию, а скажите спасибо, что она существует».[36] Казалось, ничто не предвещало закат его административной карьеры, но, как не без желчи писал Стратонов о Костицыне, «иной раз он поднимался в советской иерархии довольно высоко, а потом снова терял значение».[37]
7 октября 1926 г. комиссия по научным загранкомандировкам при Наркомпросе согласилась на поездку Костицына в Германию, Францию и Италию для ознакомления с постановкой дела в геофизических учреждениях и новыми методами горной разведки, вследствие чего 3 ноября математическая предметная комиссия 1-го МГУ постановила: «Считать возможным без ущерба для учебной работы отпустить В. А. Костицына с конца марта 1927 г.»;[38] аналогичные разрешения выдали предметная комиссия по кафедре геофизики и правление университета.[39] Это была уже не первая зарубежная командировка профессора: осенний триместр 1923–24 учебного года он провел во Франции[40] (в частности, 18 декабря прочитал лекцию об исследованиях Курской магнитной аномалии в парижском Союзе русских инженеров), а летом 1924 г. участвовал в 7-м Международном математическом конгрессе в Торонто, где 16 августа выступил с докладом «Опыт математической теории гистерезиса».
Костицын уехал во Францию в трехмесячную командировку 7 мая 1927 г., теперь уже в качестве директора Геофизического института, и присутствовал 23 мая на заседании Парижской академии наук, в отчетах которой было опубликовано его сообщение «О решении сингулярных интегральных уравнений Вольтерра», представленное известным математиком Жаком Адамаром.[41] Костицын хотел продлить командировку, но Главнаука отказала ему. Тем не менее в срок он не вернулся, поэтому президиум коллегии Наркомпроса 29 сентября освободил его от занимаемой должности.[42] Через неделю, оставив жену в Париже (начинающий биолог, Юлия Ивановна стажировалась в Сорбонне), профессор вернулся в Москву, но оправдываться перед начальством не стал, ограничившись 10 октября коротким заявлением: «Я считаю своей обязанностью напомнить Президиуму, что подобные постановления должны выноситься хотя бы после поверхностной проверки обвинительного материала и, во всяком случае, после затребования объяснений у обвиняемого. В данном случае приходится констатировать полное отсутствие этих элементарных гарантий».[43] За профессора вступился начальник Главнауки партиец Ф. Н. Петров, который в своем заключении написал, что решение президиума коллегии Наркомпроса «не основано на каком-либо обвинительном материале, а вынесено вследствие фактического отсутствия т. Костицына в течение более месяца после окончания срока его командировки». Но поскольку «одной из причин задержки» Костицына явилась «потеря его паспорта при визировании в иностранном министерстве иностранных дел», по его мнению было бы целесообразно пойти навстречу профессору, который просит «изменить редакцию постановления» в том смысле, что он освобождается от должности по собственному желанию. Считая «полезным использовать накопившийся у т. Костицына опыт», Петров ратовал за оставление его в составе коллегии Главнауки.[44]
В итоге 25 октября руководство Наркомпроса решило: «Принимая во внимание объяснение проф. Костицына, признать возможным изменить редакцию постановления Президиума от 29/IX с.г. и считать освобожденным его от должности зав. Научным отделом Главнауки согласно его просьбе».[45] Относительно предложения об оставлении Костицына в составе коллегии в постановлении не говорилось ни слова; сам он, комментируя 19 ноября свое увольнение в письме Вернадскому, скупо пояснял: «Вернувшись не так давно из-за границы, я нашел себя уволенным из Главнауки по формальному поводу – за опоздание из командировки. Дело, конечно, не в этом. Во всяком случае, я не огорчен, так как теперь я буду иметь больше времени для научной работы и для приведения в порядок кафедры геофизики в 1 МГУ». А по поводу учебы жены Костицын писал: «Юлия Ивановна все еще в Париже и вероятно пробудет там несколько месяцев. В прошлом году она работала в качестве лаборантки в лаборатории экспериментальной морфологии проф. В. М. Данчаковой и настолько увлеклась своей работой, что мы с ней решили оставить ее на некоторое время в Париже для приобретения общей биологической подготовки. Вы спросите, почему не в Москве. Этому много причин и прежде всего – ненормальные условия приема, когда дело решается не по признаку подготовки. Все преподавание на младших курсах рассчитано на плохо подготовленного современного студента, а Ю[лия] И[вановна] уже имеет законченное высшее образование. Французская система гораздо гибче нашей и дает возможность каждому выбрать то, что ему надо. Внимание при этом не разбивается на десяток отрывков разных наук. Затем условия жизни в Москве не благоприятствуют никакой работе. Конечно, скучно: за восемь лет мы никогда не расставались на продолжительный срок. Но, когда я испытываю здесь какую-либо гадость (а их бывает немало), я радуюсь, что Ю[лия] И[вановна] в Париже».[46]
Несмотря на увольнение из Главнауки, Костицын не изменил себе и уже 9 ноября выступил на заседании учебного совета физико-математического факультета 1-го МГУ с предложением ставить на его обсуждение «некоторые важнейшие вопросы факультета, стоящие перед деканатом» и был избран в делегацию, которой поручалось обратиться в коллегию Наркомпроса и, в случае надобности, к председателю Совнаркома А. И. Рыкову с сообщением о «ненормальном финансовом положении факультета».[47]
Впрочем, профессор все еще оставался в фаворе у своих недавних соратников по большевистскому подполью, и в постановлении Комиссии по выборам в Академию наук СССР, утвержденном Политбюро ЦК ВКП(б) 23 марта 1928 г., предлагалось «выяснить возможность включения в список <…> Костицына»![48] Но в характеристике за подписью помощника начальника Секретного отдела ОГПУ И. Ф. Решетова, направленной 3 апреля в Отдел научных учреждений Совнаркома СССР, говорилось: «Костицын Владимир Александрович – проф. 1 МГУ, бывший большевик, участник Пресненского восстания в 1905 г., после которого эмигрировал. В 1916 г. возвратился в Россию по “патриотическим побуждениям” для отбывания военной службы. В период особенно острой борьбы за советизацию ВУЗов был одним из активнейших участников профессорских забастовок и контрреволюционного движения среди профессуры. Один из главных руководителей февральской забастовки в 1922 г. В 1922 г. предполагалась высылка проф. Костицына за границу. С 1923 г. утратил политическую активность, прекратив всякие выступления в ВУЗах. С 1925 г. стал заметно эволюционировать влево и в настоящее время считается если не левым, то, во всяком случае, вполне лояльным по отношению к Советской власти профессором. Один из крупнейших математиков».[49]
Но тогдашний ректор 1-го МГУ А. Я. Вышинский полагал, что в политическом отношении Костицын «нетверд, уступает сильно Егорову»,[50] то есть поддается его влиянию. Егорова в 1924 г. избрали членом-корреспондентом Академии наук СССР, но в ОГПУ о профессоре, человеке глубоко религиозном, отзывались крайне негативно: «Монархист-мистик. Все время ведет антисоветскую агитацию. В 1922 г. был предназначен к высылке за границу. В 1923 г. имел связи с эмигрантами – кирилловцами. Его квартира является местом сбора для мистиков разных толков».[51] Отзыв Вышинского и характеристика ОГПУ сыграли, видимо, свою роль, так как уже на следующий день, 4 апреля 1928 г., Комиссия Совнаркома по содействию работам Академии наук СССР, обсудив вопрос о выборах новых академиков, постановила: «Считать политически нецелесообразным выставление кандидатуры Костицына».[52]
Тем не менее ходатайство профессора об очередной командировке во Францию, куда он так рвался к жене, поддержало Всесоюзное общество культурных связей с заграницей (ВОКС), генеральный секретарь которого, Ф. В. Линде, обратился 28 апреля к руководству Наркомата просвещения: «Костицын Владимир Александрович, профессор 1-го МГУ и директор Геофизического института СССР, получил приглашение от директора Математического института Страсбургского университета М. Фреше приехать в конце мая в Страсбург для прочтения ряда лекций о его исследованиях в области математики. Проф. Фреше указывает на то, что два крупных ученых математика, из которых один, проф. [Н. М.] Крылов, – член Украинской Академии наук, в прошлом году были в Страсбурге, где читали свои доклады с большим успехом. Он просит проф. Костицына приехать в конце мая обязательно, так как уже 15 июня заканчивается весенний семестр». Считая «поездку проф. Костицына в Эльзас-Лотарингию весьма полезной с точки зрения научного и культурного сближения», ВОКС «всецело» поддержало его ходатайство.[53]
Хотя в Страсбург профессор так и не успел, 15 июля 1928 г. ему был предоставлен двухмесячный отпуск для поездки в Париж, которая, как позже оправдывались в Наркомпросе, «оформлялась Костицыным не в порядке научной командировки, а как частным гражданином через административные органы».[54] Рассчитывая вернуться на родину вместе с женой, профессор очень беспокоился в связи с «дурными сведениями» о ее здоровье (у Юлии Ивановны было слабое сердце) и размышлял, как-то она сумеет «приспособиться к московским условиям после года жизни в теплом климате» (т. 2, с. 27). Но, опять задержавшись в Париже, Костицын вновь подвергся оскорбительному наказанию, лишившись осенью занимаемых им руководящих должностей в Астрофизическом и Геофизическом институтах и на кафедре геофизики 1-го МГУ.
Об изменении отношения к Костицыну свидетельствуют и протоколы заседаний предметной комиссии по кафедре геофизики, председателем бюро которой его единогласно переизбрали 26 октября 1927 г. Хотя деятельность бюро признали тогда удовлетворительной,[55] на его заседании 11 октября 1928 г. говорилось «о том затруднительном положении, в котором оказалась кафедра в связи с внезапным отъездом Костицына В. А. за границу без оставления официального заместителя по бюро предметной комиссии и заведыванию Институтом». Профессору вменялось в вину, будто он игнорировал курсы «Теория земного магнетизма», «Геофизика для неспециалистов» и Геофизический «семинарий», что, по заявлению доцента В. Ф. Бончковского, «резко отразилось на качестве подготовки специалистов», недостаток которой «отмечен руководителями студентов». В связи с этим на заседании был поднят вопрос о перераспределении курсов, числящихся за Костицыным.[56]
Никто из членов предметной комиссии почему-то не вспомнил, что по инициативе Костицына на его семинарии с лекциями о современных достижениях геофизики выступили академик П. П. Лазарев, профессора Ю. М. Шокальский, В. В. Шулейкин, приват-доцент А. И. Заборовский и другие ученые. Например, 19 ноября 1927 г. Костицын писал Вернадскому: «Я уже обращался к Вам в прошлом году с просьбой прочесть в нашем геофизическом семинарии лекцию на тему по Вашему выбору, и Вы были так любезны, что дали условное согласие. Я и весь состав кафедры просим Вас в этом году осуществить Ваше обещание. Я надеюсь в конце этого месяца побывать лично в Ленинграде и попросить Вас».[57] Известно, что намеченная поездка состоялась.[58]
На заседании предметной комиссии 29 октября 1928 г. курс «Теория земного магнетизма» был передан Заборовскому, но «ввиду поступивших частных сведений о близком сроке возвращения В. А. Костицына» решение по другому его курсу и семинарию решили временно отложить. Но уже 12 ноября члены предметной комиссии признали работу действующего бюро «неудовлетворительной», избрав председателем доцента В. И. Виткевича, а его заместителем – Заборовского.[59] Еще раньше, 9 ноября, правление 1-го МГУ назначило профессора А. А. Сперанского временно исполняющим обязанности заведующего Геофизическим институтом «впредь до возвращения проф. В. А. Костицына».[60]
Все это вызвало просьбу обиженного профессора о предоставлении ему годового отпуска для лечения, и 10 января 1929 г. коллегия Наркомпроса постановила: «Продлить проф. Костицыну отпуск до 1/IV, поручив Главнауке за это время справиться в нашем Полпредстве во Франции о политическом поведении проф. Костицына в Париже. Одновременно поручить Главнауке совместно с ГПУ проверить обстоятельства и порядок выезда проф. Костицына».[61] В свою очередь правление 1-го МГУ, заслушав 18 января сообщение исполняющего обязанности ректора И. Д. Удальцова о том, что Костицын, находясь в заграничной командировке, заболел и не может приступить к занятиям до весны, приняло решение считать его находящимся в отпуске по болезни.[62]
Но еще 13 декабря 1928 г., выражая свое негативное отношение к происходящим в СССР переменам, Костицын жаловался Стратонову: «Дело в том, что мне осточертел сумасшедший дом и, кажется, что я тоже осточертел сумасшедшему дому. Словом, я в большом колебании…».[63] В другом письме Стратонову, от 13 января 1929 г., касаясь деятельности Астрофизического института и указывая, что там работает много талантливой молодежи, Костицын с досадой замечал: «Все это хорошо, но Вы можете себе представить, какого количества усилий стоит каждый шаг вперед, сколько вредных сопротивлений приходится преодолевать и сколько неожиданностей (вроде прекращения уже отпущенных кредитов на уже заказанные вещи или навязывания членов правящей партии на должности) бывает. В общем, лица администрирующие почти лишены возможности научно работать, так как огромное количество времени уходит на преодоление затруднений вне института. Затем – ставки научных работников: действительный член (старший астроном, заведующий отделом) получает 125 р. в месяц, из коих минимум 50 р. идет на оплату жилища, а жизнь в Москве безумно дорога и безумно сложна. Поэтому все совмещают – и помногу, и работе могут отдавать лишь жалкие остатки времени. Совместительство неизбежно также из-за полной неустойчивости положения: и институт, и его отделы, и его работники, как и всюду в других научных и ненаучных учреждениях, находятся под постоянной возможностью сокращения. Поэтому никто не решается вешать свое платье на один гвоздь, а без этого не может быть плодотворной работы».[64]
Наступил апрель 1929 г., но профессор все откладывал свое возвращение в Москву и в письмах, адресованных новому заведующему Главнаукой М. Н. Лядову (своему давнему знакомому), ссылался, как возмущались в Наркомпросе, «то на болезнь жены, то на отсутствие средств, а затем на якобы дурное к нему отношение».[65] Ведь уже 21 июня правление 1-го МГУ, заслушав доклад специальной комиссии по «обследованию учебной и исследовательской работы Геофизического института и связи его с ГНИГИ», посчитало положение кафедры геофизики ненормальным, деятельность института неудовлетворительной и сохранение их существующего штата нецелесообразным.[66] Тем не менее 4 июля коллегия Наркомпроса согласилась еще раз продлить Костицыну отпуск на месяц (с 1 августа по 1 сентября),[67] а 22 августа перевела ему по его просьбе 100 рублей.[68] Но под влиянием тревожных вестей из СССР, где, помимо развернутой летом кампании по «чистке» советских учреждений от «социально-чуждых» элементов, газеты с пугающей регулярностью сообщали о раскрытии все новых и новых «контрреволюционных» организаций «вредителей» и «шпионов» из беспартийных «спецов», в том числе и в научно-академической среде, Костицын все тянул с отъездом в Москву, вследствие чего 18 сентября был уволен из Института математики и механики, 4 октября – с кафедры геофизики: отчислен от должности профессора.[69] Костицын вспоминал позднее: «[В конце года, ] когда окончательно выяснилась для меня невозможность возвращения ввиду уже начавшихся репрессий по моему адресу, мы получили от Веры Михайловны [Данчаковой] письмо, в котором она выражала удивление, что обо мне говорят в Москве как о “враге народа” и человеке, объявленном вне закона <…>» (т. 2, с. 27).
Речь шла о постановлении ЦИК СССР от 21 ноября 1929 г. «Об объявлении вне закона должностных лиц – граждан СССР за границей, перебежавших в лагерь врагов рабочего класса и крестьянства и отказывающихся вернуться в СССР», что влекло за собой «расстрел осужденного через 24 часа после удостоверения его личности»![70] Уже 11 декабря руководство Наркомпроса, в котором А. В. Луначарского на посту наркома сменил А. С. Бубнов, возбудило перед ВЦИК ходатайство «о применении к профессору Костицыну постановления ЦИК Союза ССР от 21 ноября». Решением секретариата ВЦИК от 25 декабря и опросом, проведенным среди членов его президиума 30 декабря, ходатайство Наркомпроса было передано «на распоряжение Прокурора Верховного суда Союза ССР»,[71] перенаправившего дело в Уголовно-судебную коллегию.
Отвечая 13 мая 1930 г. на запрос секретариата ВЦИК, почему к Костицыну так и не применили закон о невозвращенцах, председатель суда А. Н. Винокуров объяснял: «Верхсуд СССР пришел к выводу, что ставить это дело на рассмотрение в судебном порядке и объявлять Костицына вне закона по переживаемому в то время моменту (“крестовый поход” [против СССР]) политически было бы нецелесообразным, так как Костицын является крупным ученым и в его письмах нет указания на прямой разрыв с нами и не имеется конкретных доказательств его измены. На основании этого Верхсуд полагал, что постановка дела в гласном суде и объявление его вне закона может дать новую пищу для агитации против нас за преследование людей науки, тем более что Костицын связан с рядом научных работников Европы. Поэтому Верхсуд СССР пришел к выводу, что в отношении проф. Костицына наиболее целесообразным было бы применение ст. 41 Консульского Устава СССР и лишение его права гражданства в административном порядке ЦИК СССР по представлению генерального консула в Париже. Приглашенный на совещание по означенному вопросу представитель Наркомпроса РСФСР вполне присоединился к указанному мнению и должен был войти с соответствующим представлением во ВЦИК».[72] И в самом деле, еще 19 апреля заместитель наркома просвещения В. А. Курц и очередной заведующий Главнаукой И. К. Луппол обратились в президиум ВЦИК с официальным письмом: «Считая, что упорное нежелание Костицына вернуться в СССР дольше не может быть терпимо, Наркомпрос просит ВЦИК лишить его прав гражданства РСФСР».[73] Поскольку 11 июня из Иностранного отдела ОГПУ сообщили, что «всецело присоединяются» к предложению Наркомата просвещения,[74] 10 августа 1930 г. президиум ВЦИК постановил: «1. Лишить профессора Костицына гражданства Союза ССР. 2. Настоящее постановление представить на утверждение президиума ЦИК Союза ССР».[75]
Еще через полторы недели, 20 августа, материал о Костицыне поступил в секретариат президиума ЦИК и в тот же день был передан в его «секретную часть», занимавшуюся вопросами о лишении гражданства. Но с утверждением постановления там явно не торопились, о чем свидетельствуют пометки секретариата ВЦИК в «Справке по делу»: 20 сентября – «Дело передано в комиссию по гражданству; когда будет рассмотрено, неизвестно»; 20 октября – «В ЦИК не рассмотрено»; 25 ноября – «Дело все в том же положении»; 23 декабря – «Дело включено в протокол, будет рассмотрено дней через 8–10». Хотя 16 февраля 1931 г. секретариат ВЦИК снова поинтересовался, утверждено ли, наконец, его постановление о Костицыне, выяснилось, что дело все «еще не рассмотрено и неизвестно, когда будет закончено», а 10 сентября из ЦИК СССР сообщили, что «вопрос будет проходить в секретном порядке».[76] Очередной запрос относительно прохождения дела последовал 3 апреля 1932 г., но 7 мая ответственный сотрудник ИНО ОГПУ Я. М. Бодеско-Михали уведомил секретариат президиума ЦИК: «В дополнение к телефонным переговорам о лишении союзного гражданства профессора Костицына просим этот вопрос отложить на неопределенное время по оперативным соображениям».[77] Поэтому, рассмотрев 20 мая «ходатайство ВЦИК о лишении гражданства Союза ССР проф. Костицына Владимира Александровича (дело № Г – 10895)», секретариат президиума ЦИК СССР постановил: «Вопрос с обсуждения снять».[78]
Остается только гадать, что подразумевало ОГПУ под «оперативными соображениями», ибо до войны Костицын, по его утверждению, фактически не имел «никакого соприкосновения с эмиграцией» (т. 1, с. 335), а на предложение парижского знакомого выступить с обличениями советского режима ответил резким отказом: «На это не рассчитывайте; я <…> был и остаюсь социалистом и умею отделить свое маленькое огорчение от большого общего дела» (т. 2, с. 94). Тем не менее в Москве профессор был немедленно причислен к «чуждым людям»[79] и «буржуазным, зачастую реакционным, ученым»,[80] а в переизданных в 1932 г. протоколах Первой конференции военных и боевых организаций РСДРП, на которой доклад о московском Декабрьском восстании 1905 г. делал Костицын, в посвященной ему биографической справке говорилось: «Ныне за границей в белой эмиграции».[81]
10 апреля 1931 г. Костицын, который всеми мыслями по-прежнему был на родине, с грустью писал Стратонову: «Из России ничего утешительного. Фесенков снят с директорского места в Астрофизическом институте и заменен известным Вам С. В. Орловым. Причина – беспристрастное отношение к контрреволюционным астрономам (читайте: Вы и я)». И далее замечал: «О себе ничего нового не могу сказать. Имущество мое (в Москве) конфисковано, а сам я, оказывается, вне закона, хотя, находясь за границей, всячески избегал политики и занимался исключительно научной работой…».[82] До марта 1931 г. Костицын трудился в парижском Институте физики земли, но денег, которые он зарабатывал, «едва хватало на сведение концов с концами» (т. 2, с. 35). Но после того, как профессор ушел из института, поссорившись с его директором Шарлем Мореном, семье пришлось жить на жалованье Юлии Ивановны, работавшей в лаборатории на кафедре зоологии, анатомии и сравнительной физиологии Сорбонны, и ту небольшую сумму, которую Костицын получал в Институте Пуанкаре за составление библиографического указателя по теории вероятностей.
В предвоенные годы Костицын не имел постоянного жалованья и время от времени подрабатывал, выполняя задания по прикладной геофизике (его финансовое положение несколько улучшилось лишь в 1939 г., когда в качестве научного сотрудника (chargé de recherche) он был приглашен в Национальный центр научных исследований Франции, в котором с 1951 г. и до конца жизни работал ведущим научным сотрудником (maître de recherche)), но его труды по математическому моделированию глобальных квазипериодических биогеохимических и климатических процессов получили мировое признание. Всего же за время своей второй парижской эмиграции Костицын опубликовал более четырех десятков работ на французском языке, в том числе ряд монографий: в 1934 г. – «Симбиоз, паразитизм и эволюция (математическое исследование)», в 1935 г. – «Приложение интегральных уравнений (статистика применения)» и «Эволюция атмосферы: органический круговорот, ледниковый период» (на родине ученого книга вышла только через полвека) и, наконец, в 1937 г. – знаменитую «Математическую биологию» (с предисловием Вито Вольтерры,[83] который отзывался об авторе как о выдающемся математике), переведенную в 1939 г. на английский язык, но до сего дня так и не изданную на русском.[84]
С началом Второй мировой войны Костицын работал на «национальную оборону» Франции (т. 1, с. 215), а после ее оккупации, считая, что следующей мишенью гитлеровской агрессии будет Россия, решил вернуться на родину. Не ограничившись визитом в полпредство и используя «представившуюся оказию», профессор 22 декабря 1940 г. обратился к своему хорошему знакомому, вице-президенту Академии наук СССР О. Ю. Шмидту, с личным письмом, в котором выражал желание «положить конец создавшемуся недоразумению и работать у себя и для своих». Но резолюция Шмидта гласила: «Автор письма, проф. Костицын, в свое время обманул Советскую власть и, воспользовавшись командировкой, сбежал. Не вижу в нем надобности для СССР. Оставить письмо без ответа».[85]
Арестованный 22 июня 1941 г. в числе многих других «русских парижан», Костицын был заключен в лагерь для интернированных в окрестностях Компьеня – Frontstalag 122, куда после нападения Германии на СССР были собраны как советские граждане, главным образом невозвращенцы, так и все подозрительные, с точки зрения оккупационных властей, русские «апатриды». В публикуемых воспоминаниях о жизни в оккупированной и послевоенной Франции, охватывающих 1940–1948 гг., Костицын рассказывает о девяти месяцах, проведенных им в заключении, и дает честные, зачастую нелицеприятные, хотя и не всегда беспристрастные портреты более сотни своих невольных товарищей по лагерю, представлявших все слои и весь политический спектр русской эмиграции – от потомков старинных дворянских родов, генералов, видных деятелей Белого движения до университетских профессоров, адвокатов, врачей, священников, архитекторов, инженеров, литераторов, художников и совсем безвестных лавочников, портных, шоферов такси. Среди узников лагеря оказались и вчерашние младороссы с их экстравагантным лозунгом «Царь и Советы!», и «нацмальчики» – активисты Национально-трудового союза нового поколения, и деятели Русского студенческого христианского движения, и глава масонских лож Древнего и Принятого Шотландского Устава – «великий командор Русского особого совета 33-й степени», и представители национальных движений.
С августа 1941 г. Костицын – ректор лагерного «университета», в котором, помимо лекций по различным областям знаний, преподавались иностранные языки, ремесла и даже устраивались вечера воспоминаний, что, как вспоминал профессор, «давало большой душевный отдых» и лекторам, и слушателям, предоставляя обитателям еврейских бараков «возможность не думать о будущем, которое было близко и ужасно, хотя бы в течение нескольких часов» (т. 1, с. 384). Отношение к «отверженным» – евреям являлось в период оккупации своего рода лакмусовой бумагой для определения человеческой порядочности (а с 1942 г. через транзитный Компьень были депортированы в Аушвиц, Бухенвальд, Маутхаузен и другие лагеря смерти свыше 50 тыс. человек, подавляющее большинство которых сразу же отправлялись в газовые камеры), и Костицын не только занимался просвещением соузников, но и, рискуя жизнью, делал все возможное, чтобы облегчить положение обреченных на уничтожение.
В годы Второй мировой войны Костицын стал убежденным советским патриотом и именно по этому критерию оценивал всех, с кем ему доводилось общаться. О том, насколько важным было для него это понятие в период оккупации, свидетельствует то, что слово «патриот» и производные от него встречаются в воспоминаниях Костицына более 90 раз. Костицын не сомневался в поражении нацистской Германии, хотя до разгрома вермахта под Сталинградом в 1943 г. многие из белоэмигрантов лелеяли призрачную надежду, что, очистив Россию от «иудо-большевизма», Гитлер позволит им навести там «порядок». Прослеживая дальнейшую политическую эволюцию известных ему компьенцев (некоторые из них являлись, по выражению мемуариста, «германофилами-изменниками» (т. 1, с. 362), а после войны поспешили записаться в «советские патриоты» и выставляли себя едва ли не участниками Сопротивления), сам Костицын никогда не кривил душой и, несмотря на свою «ссору» с коммунистическим режимом и критический настрой ума, не только не изменил советскому гражданству, но и остался человеком левых убеждений, что вполне объясняет его филиппики в адрес столь презираемых им «зубров» – черносотенцев или лиц, придерживавшихся «американской» ориентации.
Освобожденный из лагеря 23 марта 1942 г., Костицын вернулся к научным занятиям, но уже в августе приютил у себя в квартире друга – профессора Сорбонны зоолога Марселя Пренана, который, заведуя кафедрой сравнительной анатомии и гистологии, где работала Юлия Ивановна, с июля состоял начальником штаба Национального военного комитета подпольной коммунистической организации «Francs-tireurs et partisans français» («Французские франтиреры[86] и партизаны»). Так Костицын включился в движение Сопротивления (к участию в котором привлек и своего товарища по лагерю, «настоящего патриота» И. А. Кривошеина), а после того, как в январе 1944 г. Пренан был схвачен, только чудом, благодаря собственному хладнокровию, не попал в ловушку охотившихся за ним гестаповцев. Перейдя на нелегальное положение, профессор и его жена скитались по парижским знакомым или скрывались в провинции, непрерывно переезжая с места на место до самого освобождения Парижа. Уже в 1945 г. Костицын удостоился чести быть избранным председателем контрольной комиссии Содружества русских добровольцев, партизан и участников Сопротивления во Франции, членом правления которого являлась и Юлия Ивановна, но, презирая «квасной патриотизм в непристойных пропорциях» (т. 2, с. 62), наотрез отказался вступить в Союз советских патриотов, который посчитал… сборищем «прохвостов» и «двурушников» (т. 1, с. 567).[87]
После кончины жены, последовавшей 17 января 1950 г., горько оплакивая «верную спутницу», с которой прожил душа в душу тридцать лет, пройдя рука об руку через немало трудных, а порой и смертельно опасных испытаний, Костицын начал вести дневник (сначала «вписывал разные разности» на французском языке в обычный деловой ежедневник, но 19 марта сменил его на общую тетрадь), в котором, пытаясь заглушить мучительную боль разлуки и разговаривая с Юлией Ивановной как с живой, описывал события каждого проведенного без нее дня или вспоминал о совместно пережитом. Родная могила не отпускала, и, несмотря на советский паспорт и отъезд из Франции большей части близких ему по духу русских эмигрантов, Костицын так и не вернулся на родину, а за полгода до кончины с горечью пометил в дневнике: «Режим истребил всех тех, кому было дорого свое человеческое достоинство, кто находил в себе смелость возражать. Где они? Вот я – тут, а мне следовало быть там, я был нужен, но меня “истребили”» (т. 2, с. 173). Впрочем, Костицын не замкнулся в себе: человек разносторонних интересов, он выступал с докладами в Институте Пуанкаре, давал консультации и уроки русского языка французским математикам, встречался и переписывался с приезжавшими в Париж советскими учеными, много читал, приобретая интересовавшие его новинки из СССР, и регулярно посещал художественные выставки, очень любил кино и классическую музыку, бывал в музеях, внимательно следил за международной политикой и почти ежедневно общался со своими знакомыми из числа левых французов или русских парижан, всегда кого-то опекая, кому-то помогая…
Владимир Александрович скончался 29 мая 1963 г. в возрасте почти восьмидесяти лет, оставив после себя три с лишним десятка общих тетрадей, исписанных четким убористым почерком, без помарок, с дневниками (повседневные записи часто перемежаются в них воспоминаниями), которые не только по-человечески трогают своей исповедальной искренностью, но и отражают драматическую историю яркой судьбы благородного и мужественного человека, большого ученого и бескорыстного патриота своей неблагодарной родины в трагические и переломные годы минувшего ХХ века. После кончины профессора его дневники, в которых упоминаются встречи с Лениным, посольство СССР во Франции отправило в Москву, где ныне они хранятся в Российском государственном архиве социально-политической истории – бывшем Центральном партийном архиве при ЦК КПСС.
С учетом значительного объема тетрадей (порядка 8 тыс. страниц),[88] не позволяющего опубликовать их полностью, в настоящем издании представлены неоконченная автобиография, доведенная до 1922 г., воспоминания о событиях 1918–1921 и 1940–1948 гг.,[89] а также часть дневниковых записей за 1950–1963 гг. (некоторые приводятся не целиком), главным образом мемуарного характера или связанных с судьбами русских эмигрантов в послевоенной Франции. Текст воспоминаний и дневниковых записей печатается с некоторыми сокращениями, отмеченными многоточиями в угловых скобках.
В. Л. Генис
1
См.: The Golden Age of Theoretical Ecology: 1923–1940: A Collection of the Works by V. Volterra, V. A. Kostitzin, A. J. Lotka and A. N. Kolmogoroff / Ed. F. M. Scudo, J. R. Ziegler. Berlin; Heidelberg; N. Y., 1978.
2
См.: Le prix Montyon de statistique // Comptes rendus hebdomadaires des séances de l’Académie des sciences. 1942. T. 215. P. 614.
3
Центральный государственный архив города Москвы (далее – ЦГА Москвы). Ф. 418. Оп. 316. Д. 441. Л. 17.
4
Крупская Н. К. Воспоминания о Ленине. М., 1931. Вып. 2. С. 49.
5
Воспоминания Н. К. Крупской цит. по примечаниям к кн.: Ленин В. И. Письма к родным. 1894–1919. М., 1931. С. 366.
6
См.: Костицын В. А. Об одном общем свойстве систем ортогональных функций // Математический сборник. 1912. Т. 28. № 4. С. 497–506; Несколько замечаний о полных системах ортогональных функций // Там же. 1913. Т. 29. № 1. С. 134–139.
7
См.: Kostitzin V. Quelques remarques sur les systèmes complets de functions orthogonales // Comptes rendus hebdomadaires des séances de l’Académie des Sciences. 1913. T. 156. P. 292–295.
8
Цит. по: Колягин Ю. М., Саввина О. А. Дмитрий Федорович Егоров: Путь ученого и христианина. М., 2010. С. 291.
9
См.: Kostitzin V. Sur la distribution des étoiles dans les amas globulaires // Bulletin astronomique. 1916. T. 33. P. 289–293; Kostitzin V. Sur la périodicite de l’activite solaire et l’influence des planets // Comptes rendus hebdomadaires des séances de l’Académie des sciences. T. 163. 1916. P. 202–204.
10
Российский государственный архив социально-политической истории (далее – РГАСПИ). Ф. 2. Оп. 1. Д. 24307. Л. 4.
11
В «Обзоре деятельности антисоветской интеллигенции за 1921–22 гг.» В. А. Костицын назван в числе «инициаторов и организаторов» профессорского движения в Москве (см.: Высылка вместо расстрела. Депортация интеллигенции в документах ВЧК – ГПУ. 1921–1923 / Вступ. статья, сост. В. Г. Макарова, В. С. Христофоров. М., 2005. С. 142).
12
Т. 1, с. 239 настоящего издания. Далее том и страницы данной книги указываются в скобках в тексте.
13
Стратонов В. В. По волнам жизни: Воспоминания // Государственный архив Российской Федерации (далее – ГАРФ). Ф. Р – 5881. Оп. 2. Д. 669. Л. 225–226.
14
Стратонов В. В. Указ. соч. Л. 267.
15
Вернадский В. И. Дневники: Март 1921 – август 1925 / Сост. В. П. Волков. М., 1998. С. 98.
16
См.: «Из разговоров с Владимиром Александровичем Костицыным». Страничка из дневника В. И. Вернадского 1923 года / Публ. и коммент. М. Ю. Сорокиной // Берега: Информационно-аналитический сборник о русском зарубежье. СПб., 2015. Вып. 19. С. 50.
17
Помимо административно-преподавательской и редакторской работы, докладов на конференциях и т. д., Костицын регулярно публиковал научные и научно-популярные статьи и брошюры по математике, астрофизике и геофизике; в анкете от 24 сентября 1925 г. он указывал, что имеет «свыше 30 печатных трудов и свыше 100 рецензий и заметок» (ГАРФ. Ф. А – 2306. Оп. 49. Д. 1353. Л. 2).
18
См.: ЦГА Москвы. Ф. Р – 1609. Оп. 1. Д. 531. Л. 73.
19
Там же. Д. 587. Л. 14.
20
По декрету Совнаркома РСФСР от 3 июля 1922 г. дела, касавшиеся одной или нескольких родственных дисциплин, находились в ведении предметной комиссии, включавшей как всех научных работников (профессоров, преподавателей, научных сотрудников), принимавших участие в их преподавании, так и представителей обучавшихся по этим дисциплинам студентов («в количестве, равном половине научных работников»); предметная комиссия избирала председателя (из числа профессоров), его заместителя и секретаря, составлявших ее бюро, которое утверждалось правлением вуза (см.: Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства (далее – СУ). 1922. № 43. Ст. 518).
21
ЦГА Москвы. Ф. Р – 1609. Оп. 1. Д. 588. Л. 1–3.
22
Там же. Д. 530. Л. 2, 11.
23
См.: Стратонов В. В. Указ. соч. Л. 226.
24
ЦГА Москвы. Ф. Р – 1609. Оп. 1. Д. 588. Л. 1.
25
ЦГА Москвы. Ф. Р – 1609. Оп. 1. Д. 396. Л. 199; Д. 681. Л. 46.
26
Там же. Д. 776. Л. 23, 29.
27
ГАРФ. Ф. А – 2306. Оп. 49. Д. 824. Л. 1–3.
28
ЦГА Москвы. Ф. Р – 1609. Оп. 1. Д. 1007. Л. 117.
29
Российский государственный архив экономики (далее – РГАЭ). Ф. 8062. Оп. 2. Д. 6. Л. 38.
30
См.: ЦГА Москвы. Ф. Р – 1609. Оп. 1. Д. 1047. Л. 34; Д. 1049. Л. 8.
31
Там же. Л. 3.
32
Там же. Д. 1047. Л. 23.
33
Там же. Д. 1157. Л. 178–179.
34
В письме от 13 января 1929 г., адресованном В. В. Стратонову, В. А. Костицын вспоминал, как он и В. Г. Фесенков создавали Астрофизический институт: «Нам удалось выхлопотать: 1) помещение в старом гараже на Новинском бульваре – помещение не очень роскошное, но все же дающее возможность работать; оно состоит из одного этажа, где находится библиотека, канцелярия, измерительная, кабинет директора, две рабочих комнаты и кухня; в полуподвале помещены мастерские, фотографическая комната, лаборатория; 2) старую конюшню в Кучине, которая превращается постепенно в настоящую обсерваторию; 3) средства на оборудование в виде измерительного прибора, микрофотометров, телескопа Шера и пр.» (цит. по: Стратонов В. В. Указ. соч. Л. 260–261).
35
Костицын В. А. Успехи астрономии в СССР // Наука и техника СССР. 1917–1927: В 3 т. М., 1927. Т. 1. С. 218.
36
Архив Российской Академии наук (далее – АРАН). Ф. 518. Оп. 3. Д. 840. Л. 1–5.
37
Стратонов В. В. Указ. соч. Л. 226.
38
ЦГА Москвы. Ф. Р – 1609. Оп. 1. Д. 1048. Л. 35.
39
Там же. Д. 1007. Л. 157.
40
Там же. Д. 682. Л. 106.
41
См.: Kostitzin V. Sur les solutions singulières des équations intégrales de Volterra // Comptes rendus hebdomadaires des séances de l’Académie des Sciences. 1927. T. 184. P. 1217, 1403–1404.
42
См.: ГАРФ. Ф. А – 2306. Оп. 69. Д. 832. Л. 39.
43
Там же. Д. 834. Л. 7.
44
Там же. Л. 8.
45
Там же. Л. 2.
46
АРАН. Ф. 518. Оп. 3. Д. 840. Л. 7.
47
ЦГА Москвы. Ф. Р – 1609. Оп. 1. Д. 1157. Л. 283.
48
Цит. по: Академия наук в решениях Политбюро ЦК РКП(б) – ВКП(б) – КПСС. 1922–1952 / Сост. В. Д. Есаков. М., 2000. С. 53.
49
ГАРФ. Ф. Р – 8429. Оп. 1. Д. 58. Л. 14.
50
Там же.
51
Там же. Л. 16.
52
Там же. Д. 69. Л. 6.
53
ГАРФ. Ф. Р – 5283. Оп. 2. Д. 36. Л. 161.
54
Там же. Ф. Р – 3316. Оп. 64. Д. 860. Л. 12.
55
См.: ЦГА Москвы. Ф. Р – 1609. Оп. 1. Д. 1157. Л. 169–170.
56
Там же. Д. 1279. Л. 25–27.
57
АРАН. Ф. 518. Оп. 3. Д. 840. Л. 7.
58
См.: ЦГА Москвы. Ф. Р – 1609. Оп. 1. Д. 1157. Л. 280.
59
Там же. Д. 1279. Л. 28–29.
60
Там же. Д. 1338. Л. 113.
61
ГАРФ. Ф. А – 2306. Оп. 69. Д. 1876. Л. 2.
62
ЦГА Москвы. Ф. Р – 1609. Оп. 1. Д. 1338. Л. 89.
63
Стратонов В. В. Указ. соч. Л. 260.
64
Там же. Л. 261.
65
ГАРФ. Ф. Р – 3316. Оп. 64. Д. 860. Л. 12.
66
ЦГА Москвы. Ф. Р – 1609. Оп. 1. Д. 1338. Л. 41.
67
См.: ГАРФ. Ф. А – 2306. Оп. 69. Д. 1879. Л. 10.
68
См.: Там же. Ф. Р – 3316. Оп. 64. Д. 860. Л. 12.
69
См.: ЦГА Москвы. Ф. Р – 1609. Оп. 1. Д. 1339. Л. 5.
70
См.: Правда. 1929. № 272. 22 нояб. Подробнее см.: Генис В. Л. Неверные слуги режима: Первые советские невозвращенцы (1920–1933): Опыт документального исследования: В 2 кн. М., 2009–2012.
71
ГАРФ. Ф. Р – 1235. Оп. 44. Д. 73. Л. 226.
72
Там же. Ф. Р – 3316. Оп. 64. Д. 860. Л. 8.
73
Там же. Л. 12.
74
Там же. Л. 14.
75
Там же. Л. 18.
76
Там же. Ф. Р – 1235. Оп. 74. Д. 156. Л. 2–6.
77
Там же. Ф. Р – 3316. Оп. 64. Д. 860. Л. 22.
78
Там же. Л. 20.
79
Чистка Наркомпроса: Берегите валюту. Прекратите заграничные командировки чуждых людей // Комсомольская правда. 1930. № 8. 10 янв.
80
За партийность в философии и естествознании // Естествознание и марксизм. 1930. № 1(5). С. V.
81
Первая конференция военных и боевых организаций РСДРП. Ноябрь 1906 г. М., 1932. С. 356.
82
Стратонов В. В. Указ. соч. Л. 262.
83
Тесное сотрудничество итальянского и русского математиков подтверждает их совместная статья и обширная личная переписка (см. в приложении Библиографический список публикаций В. А. Костицына).
84
См.: Kostitzin V. A. Symbiose, parasitisme et évolution: (Etude mathématique). P., 1934; Applications des équation intégrales (applications statistiques). P., 1935; Evolution de l’atmosphere: Circulation organique, époques glaciaries. P., 1935 (на рус. яз.: Эволюция атмосферы, биосферы и климата. М., 1984); Biologie mathématique / Préface de Vito Volterra. P., 1937 (на англ. яз.: Mathematical Biology. L.; Toronto; Bombay; Sydney, 1939).
85
Цит. по: С. М. С. [Сорокина М. Ю.] «Не вижу в нем надобности для СССР…» // Природа. 2004. № 7. С. 78.
86
Франтиреры (вольные стрелки) – добровольческие отряды, действовавшие в тылу противника во время Франко-прусской войны 1870–1871 гг.
87
Как утверждалось в полицейском отчете, многие из запросивших советское гражданство делали это «из предосторожности, чтобы заставить забыть об их прислужничестве немцам либо сохранить нажитое благодаря коллаборационизму» (Российская эмиграция во Франции в 1940-е. Полицейский отчет 1948 года «La colonie russe de Paris» («Русская колония в Париже») // Диаспора: Новые материалы. Париж; СПб., 2007. Т. 8. С. 403).
88
РГАСПИ. Ф. 71. Оп. 15. Д. 402. Тетради: I (19.03–16.04.1950), II (17.04–13.05.1950), III (14.05–02.07.1950), IV (03.07–08.08.1950), V (11.08–25.09.1950), VI (26.09–28.11.1950), VII (29.11.1950–21.02.1951), VIII (22.02–15.05.1951), IX (16.05–29.06.1951), X (30.06–19.09.1951), XI (20.09–03.12.1951), XII (04.12.1951–15.02.1952), XIII (16.02–23.05.1952), XIV (17.02–22.06.1952), XV (24.05.1952–12.01.1953), XVI (28.06.1952–02.02.1953), XVII (13.01–26.08.1953), XVIII (04.02–13.11.1953), XIX (27.08.1953–24.01.1954), XX (25.01–03.06.1954), XXI (04.06–26.10.1954), XXII (27.10.1954–09.05.1955), XXIII (10.05–31.12.1955), XXIV (01.01–31.12.1956), XXV (01.01–31.12.1957), XXVI (01.01–31.12.1958), XXVII (01.01–31.12.1959), XXVIII (01.01–31.12.1960), XXIX (01.01–31.12.1961), XXX (01.01–31.12.1962), XXXI (01.01–26.05.1963), XXXII (Автобиография), XXXIII (12.01–09.07.1950, на фр.).
89
Частично публиковались: «Говорить мне не с кем!»: Из воспоминаний В. А. Костицына / Публ., вступ. ст. Н. А. Сидорова // Российская научная эмиграция: Двадцать портретов. М., 2001. С. 35–54; Костицын В. А. Воспоминания о Компьенском лагере (1941–1942) / Сост., подгот. текста, вступ. ст., коммент., аннот. именной указатель В. Л. Гениса. М., 2009; Автобиография профессора В. А. Костицына / Подгот. текста, вступ. статья, коммент., биогр. справки В. Л. Гениса // Вопросы истории. 2010. № 10, 11; 2011. № 1, 4.