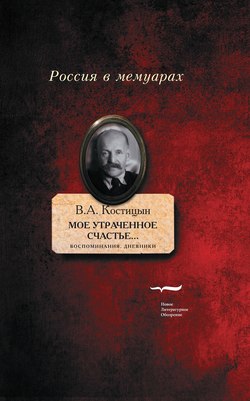Читать книгу «Мое утраченное счастье…» Воспоминания, дневники - Владимир Костицын - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Том I
В России
(1918–1921)
ОглавлениеМой французский язык не удовлетворяет меня: страничка на каждый день едва достаточна для записи повседневной жизни и не дает возможности говорить о том, о чем хотелось бы, то есть о тебе, мое утраченное счастье, моя дорогая и верная спутница трудных дней; мы с тобой сумели пронести сквозь тридцать лет совместной жизни нашу любовь нетронутой и незапятнанной.
К тебе обращаются все мои мысли, с тобой и о тебе мне хотелось бы говорить, как мы уже говорили в последние недели твоей жизни, во время ночных бдений, когда ты боялась засыпать, а я боялся оставить тебя одну. Были ночи, когда воспоминания наши шли с момента первой встречи, а в другие ночи мы говорили о настоящем, о счастье, которое остро чувствовали, о счастье быть еще вместе и о будущем, так как и ты, и я еще надеялись на будущее. И в ночь на злосчастное 13 января ты говорила: «О, как бы мне хотелось еще побыть с тобой, еще почувствовать твою любовь, и чтобы ты чувствовал, как я люблю тебя, как хочу остаться с тобой; если бы это оказалось возможно…»
И теперь я хочу собрать все мои воспоминания о тебе. Говорить мне не с кем. Детали, которые мне близки и дороги, в других вызовут только скуку, а в других, даже в хороших друзьях, – недоброжелательство, так как человеческая натура сложна и противоречий в ней много.
Вернуться нужно к маю 1918 года, хотя я в это время еще не знал тебя. Я приехал из Петрограда в Москву, в город, с которым в предыдущие годы был сильно связан и который очень любил. И вот, я почувствовал себя чужим. Старых друзей не оставалось; город встречал меня хмуро и чуждо. И вечером, после дня хождений, я почувствовал себя грустно. Наполовину в шутку, наполовину серьезно решил погадать, как гадают бабы. Только оракула Мартына Задека у меня не было, и я взял план Москвы, взял хлебный шарик и сказал себе: «С той улицы, на которую упадет шарик, придет ко мне счастье». И шарик упал, к моему удивлению, на Архангельский переулок, в котором у меня никого не было и где я никогда не бывал.[207]
Где и когда я встретил тебя впервые? Твоего отца я встретил раньше, чем тебя. Это было в конце лета 1918 года. Мои давние знакомцы по университету, братья Малкины (Абарбанель) оказались моими сослуживцами по Всерокому и даже подчиненными.[208] Кроме них и меня были еще Иван Григорьевич[209] и доктор Трушковский, который когда-то, после демонстрации в декабре 1904 года, перевязал мои раны в больнице на Щипке. Таким образом очень далекое прошлое встретилось с будущим. Иван Григорьевич мне очень понравился, и на мои вопросы о нем хозяева разъяснили, что он потерял недавно жену, очень хорошую и очень красивую женщину, что у него – четверо детей: две взрослые дочери, из коих одна умна и имеет вдумчивый и спокойный характер, а другая красива и взбалмошна, затем – девочка 13 лет и мальчик 16 лет.[210] Этот разговор был моей первой заочной встречей с тобой.
Прошло недели две. Как-то, вылезая из автомобиля во дворе Всерокома, я был остановлен компанией: старший Малкин, еще кто-то и неизвестная мне барышня, с которой меня сейчас же познакомили, и это была ты. Еще через неделю ты пришла ко мне в кабинет – просить о переводе из Экономического отдела в Управление делами, на что я согласился, и здесь, взглянув тебе в глаза, я почувствовал, что это – ты и что ты это знаешь. Однако, по моим тогдашним настроениям, еще не вполне внутренне оправившись от всего пережитого в предыдущие годы, я был очень далек от каких-либо поползновений в сторону романтики, хотя очень ценил хорошую женскую дружбу.
Поэтому шли дни, я часто встречал тебя в деловых помещениях, смутно чувствовал, что во мне зреет что-то, и мне казалось, что есть ток обратной симпатии, но никакой инициативы не проявлял. Так продолжалось до октябрьской годовщины. Это был день 9 ноября, который приходился между памятными и горькими для меня датами 8 и 10 ноября. Был праздник и концерт и бал во Всерокоме, и я должен был играть роль хозяина. Как это со мной часто бывает на общественных празднествах, мое горькое настроение шло, углубляясь, стало невыносимо, и я ушел в свой полуосвещенный кабинет, сел в кресло и отдался своим думам и воспоминаниям.
И вдруг я почувствовал, что не один: ты сидела рядом. Ты посмотрела мне в глаза и тихо сказала: «Вы страдаете? Почему?» – и на этот прямо поставленный вопрос я, с неохотой, но вдруг почувствовав доверие к тебе, все рассказал. Ты выслушала молча, положив твою маленькую родную ручку на мою, и молча сидела около меня. Потом ты ушла танцевать, и я помню вальс, который играли; затем ты ушла домой. Я еще не знал, что это был день твоего рождения.[211]
Через несколько дней после этого я получил через Александра Львовича приглашение к вам на обед; спросил адрес и узнал, что это – Архангельский переулок. Я помню тот обед, как будто он был вчера. Хозяйкой дома являлась твоя неприятная тетушка Марья Григорьевна – жена не менее неприятного Александра Александровича [Гейлига], которого я знал по Всерокому с весьма плохой стороны. Оба были сахар и любезность, которые никоим образом я не мог относить на собственный счет. Сережа, учредитель комсомола, смотрел на меня с любопытством, зная мое революционное прошлое и высокое положение во Всерокоме; его очень разочаровало, что я – не коммунист. Елена Ивановна была в отъезде на юге. Катя хворала и оставалась в постели, и я сделал ей специальный визит. Был Александр Львович. Ты сидела против меня и была очень и по-дружески внимательна.
Монументальность столовой, гостиной и кабинета меня удивили, равно как и продуманный «европейский» комфорт. Иван Григорьевич был очень мил и ласков, совершенно не по образцу своей сестры и шурина. Обед оказался очень хорош и не соответствовал осени 1918 года. Александр Львович предложил странный тост за всерокомовских невест и за первую из них – Юлечку, тост, который заставил меня насторожиться. Через несколько дней я рискнул тебя проводить, и мы с тобой погуляли «кругом», то есть кругом обширного квартала, ограниченного Кривоколенным и Архангельским переулками.
Через неделю после обеда я, как полагается, сделал visite de digestion,[212] но был очень сухо встречен теткой, а между тем для того, чтобы иметь возможность говорить с тобой, прогулка «кругом» не представлялась особенно уютным решением. Я предложил мой кабинет, имевший отдельный вход, и ты согласилась. Ни я, ни ты не имели никакого желания использовать это положение «ненадлежащим» образом: нам хотелось ближе, по-человечески, узнать друг друга, подойти друг к другу. И мне и тебе наша начинавшаяся близость была дорога именно своими человеческими сторонами; мне и в голову не приходило использовать твою «неосторожность»; наоборот, твое доверие мне было дорого.
Но не таково оказалось мнение Александра Львовича, который с явным раздражением смотрел на наше сближение. Мне кажется, что он смотрел на тебя как на «chasse gardée».[213] И моя конкуренция сначала его удивила (ибо на пожирателя сердец я ни с какой стороны не похож), а потом напугала. Он стал за нами следить и без труда открыл тайну моего кабинета, которую мы и не скрывали особенно. В результате получился донос Ивану Григорьевичу, который поставил тебе прямые вопросы, получил таковые же ответы, хотел было запретить всякие сношения со мной, натолкнулся на решительный, хотя и в мягкой форме, отпор и, видя свое бессилие, сказал: «Ну ладно, пусть от времени до времени он сюда приходит; только чтобы не сидел долго».
Таким образом я стал приходить, сначала редко, потом чаще; потом мы стали выходить вместе в театры и концерты, и тут к концу декабря или началу января 1919 года произошло нечто, отразившееся на всем нашем существовании и вызвавшее нашу теперешнюю разлуку. Ты заболела ревматизмом в самой тяжелой форме. Нужно ли говорить, кто был в этом виноват? Каким образом получилось, что ваш дом плохо отапливался, ясно: это был 1918 год. Но вот каким образом получилось, что тетка со своим семейством имела дополнительное отопление, что комната Ивана Григорьевича отапливалась, но дети мерзли в своих комнатах, – на этот счет мы никогда не были согласны.
Ты, с твоей мягкостью и снисходительностью к отцу, указывала на очень многие обстоятельства, которые вывели его из равновесия и превратили в существо слабое и утратившее способность рассуждать и действовать:[214] во-первых, смерть жены, очень недавняя; во-вторых, конфискация имущества после революции; в-третьих, арест и пребывание в Бутырках в крайне тяжелых условиях; в-четвертых, полная неопределенность и неустойчивость положения, заставлявшие цепляться за каждую возможность продержаться; в-пятых, полное отсутствие привычки к настоящей семейной жизни, так как при его занятости все заботы о семье он передал жене, а Густава Сергеевна передоверила их гувернанткам и экономке.
Может быть. Во всяком случае, я помню, как прибегала озябшая Катя и тревожно ставила вопрос: эгоист ли папа или не эгоист? И я помню, что, когда ты заболела, а болезнь твоя была очень серьезная, ни Иван Григорьевич, ни его сестрица не занимались тобой и были очень рады, что я прихожу после службы, сижу с тобой, кормлю тебя, играю с тобой в карты, разговариваю. Говорили мы с тобой очень много и узнавали друг друга все больше и больше. И все больше и больше я удивлялся, каким образом на такой неподходящей почве мог расцвести такой чудесный цветок.[215]
Однако если наше сближение шло быстро, если между нами почти сразу установилось полное доверие, то мои отношения с твоей семьей или, наоборот, отношение твоей семьи ко мне имело довольно странный характер. Марья Григорьевна выказывала мне явную враждебность, принимавшую иногда забавные формы: никогда меня не звали ни к чаю, ни к обеду; когда ты бывала в состоянии двигаться, то принимала необходимые меры, но когда лежала, чай подавался только для тебя. Я часто приносил провизию, но лишь один раз меня позвали есть гуся, которого я достал для тебя. Иван Григорьевич не занимался этими вещами, и не ему я приписываю инициативу, но он выказывал мне холодное равнодушие. Обо всем этом не стоило бы говорить, если бы, немного погодя, не образовало на несколько лет фон нашего существования. Так оно продолжалось до весны, и здесь перед нами стал вопрос, как же быть дальше.
Я не помню точно, когда именно возник вопрос о браке и кто из нас поставил его. Мне кажется, что это произошло в конце февраля 1919 года во время разговора о будущем и перспективах. Мы обсудили этот вопрос, и каждый из нас говорил о своих недостатках: ты – о своей избалованности, непривычке к труду и требовательности, я – о нашей разнице возрастов (13–14 лет), о своем характере, о том, как мало я подхожу в роли мужа к блестящей светской барышне, спортивной, танцующей, любящей одеваться, развлекаться. Странно (и это результат очень неправильного воспитания), но я всегда считал себя некрасивым, неспособным нравиться, слишком старым или старомодным, потому что все это внушалось с детства моим отцом, который желал истребить во мне «самомнение»; результат получился весьма вредный для меня. Нельзя сказать, чтобы я не видел твоих недостатков, а ты не видела моих, но как только возникла мысль об объединении наших существований, мы оба приняли ее сразу, без всякого сопротивления.
И тут возникла задача – подготовить к этой мысли Ивана Григорьевича: он уже получил с юга письмо от другой дочери с извещением о ее выходе замуж и даже с возмущением показал его мне: «Вот дочери выходят замуж, даже не спросившись родителей, даже не посоветовавшись с ними». И затем, обратившись к тебе, сказал: «Надеюсь, что ты-то будешь немножко разумнее». Как было убедить его, что то, что мы собираемся делать, именно и есть самая разумная вещь в мире? Для того, чтобы сломить его сопротивление, понадобились три недели. Я написал ему письмо и ждал твоего звонка по телефону. Хотя все уже было уговорено, но я сидел в своем кабинете и волновался. И вот твой веселый родной голос: «Идите, вас ждут».
Разговор мой с Иваном Григорьевичем был довольно странным, и оба мы его часто, по разным причинам, вспоминали. Когда я пришел к нему, он сказал: «Ничего не могу поделать. Старался переупрямить Юлечку, но это невозможно. В будущем желаю вам в этом отношении лучших успехов. А впрочем, кто знает? Может быть, это и не будет так плохо. Надеюсь, что вы сделаете мою дочь счастливой». Я ответил: «Благодарю вас за согласие. Гарантировать счастье не могу, хотя постараюсь все сделать для этого». Он взглянул на меня неодобрительно: «Только не надейтесь, чтобы мы могли скоро сыграть свадьбу. Обстоятельства сейчас слишком неблагоприятны. Подождем до начала будущего года». Я рассердился: «Не вижу, какой смысл в этом ожидании. И на какие изменения обстоятельств вы надеетесь? По-моему, чем скорее, тем лучше». – «Ну что же, – сказал он, – тогда давайте перед Рождеством». Я пожал плечами: «Ладно, там увидим». Он говорил впоследствии, что никогда не видел таких сухих и черствых людей, как я.[216]
Прежде чем излагать нашу историю дальше, нужно остановиться на некоторых существенных вопросах и прежде всего на нашем положении. Оба мы работали в Трамоте (Транспортно-материальном отделе ВСНХ) – преемнике Всерокома, и для обоих нас это не было идеалом ни с какой точки зрения. Я занимал там высокое положение, но для меня оно было совершенно временным выходом, навязанным ходом вещей, начиная с моего призыва в 1916 году на военную службу, оторвавшей меня надолго от научной работы. У меня было много возможностей «окопаться» и продолжать спокойно заниматься своим делом, но я не считал это морально допустимым.
Вернувшись в Москву, я старался вернуться в университет. С осени 1918 года я регулярно работал на обсерватории, собирая материал для моей работы о звездных скоплениях, и поставил вопрос перед моими университетскими друзьями об открытии мной курса лекций. Д. Ф. Егоров и С. А. Чаплыгин отнеслись к этому сочувственно, и благодаря им мое желание увенчалось в конце концов успехом.
Неожиданное сопротивление я встретил со стороны Николая Николаевича Лузина. Когда я заговорил с ним об этом, он ответил мне: «Да, конечно, очень хорошо было бы, если вы смогли бы возобновить вашу научную работу. Ведь сам наш народный комиссар Луначарский приглашает интеллигенцию на помощь в борьбе с мраком невежества. Святые слова!..» Я ответил, что можно только радоваться, если призыв будет услышан, и со своей стороны, как наследственный просвещенец, о том только и мечтаю, чтобы отдать все мои силы на помощь власти в этом направлении. И тут вдруг лицо его исказилось яростью, и он заговорил в другом духе: «Как можете вы, бывший офицер, человек, умеющий владеть оружием и обладающий боевым темпераментом, добиваться спокойного места в университете, когда на юге идет борьба за счастье России против безбожников, убийц и обманщиков».
Я весьма холодно сказал ему: «Если таковы ваши политические симпатии, никто не мешает вам сделать то, что вы советуете мне. Тем более, что и во время войны патриотом были вы, а на фронте был я». Сказав это, я повернулся и ушел, не прощаясь. Впоследствии я узнал, что он вел против меня кампанию среди профессоров, говоря правым: «Вот смотрите, ведь это человек, который много лет участвовал в революционной борьбе. Для науки нужны чистые руки, а у него они – в крови». И левым он говорил: «Офицер в царской армии; человек, любящий науку, не лезет в эти дела». Все это не помешало ему, несколькими месяцами позже, когда я был избран факультетом, меня поздравить. Его двойственность, а иногда и тройственность я знал хорошо, но наивно полагал, что наши добрые отношения (с 1902 года!) помешают ему так проявляться по моему адресу.
Итак, к моменту нашего обручения я делал все возможное, чтобы вернуться в университет уже в качестве преподавателя и покинуть ненавистную мне административную работу. Твое положение было аналогично. По окончании гимназии ты хотела заниматься биологией, но твоя семья воспротивилась этому, и согласие было дано лишь на поступление в Коммерческий институт на экономический факультет с тем, чтобы по окончании делать деловую карьеру под руководством родителей.[217] К тому времени, как мы познакомились, ты уже закончила свой институт.
Передо мной лежат твои отметки на экзаменах за четыре года, очень хорошие отметки и по очень интересным предметам. Но никогда и ни в чем не было видно, что ты занималась ими четыре года, в то время как все, касающееся биологии, усваивалось тобой сразу и оставалось в твоем интеллектуальном фонде для повседневного употребления. Очевидно, с твоей экономикой произошло то же, что с моим классическим образованием: древние языки были до того ненавистны мне в гимназии, что после окончания ее вылетели у меня сразу, и я никогда не имел повода об этом жалеть. Итак, в наших разговорах о будущем было твердо решено, что при первой возможности ты займешься своей биологической подготовкой и начнешь научную работу. Эта надежда осуществилась, но далеко не сразу и не скоро.[218]
Нужно вернуться к твоим ревматизмам. Я прочел как раз сегодня в последнем номере «Lettres françaises»[219] (№ 304 от 23 марта 1950 г., стр. 5) статью д-ра Baissette об остром суставном ревматизме, которая меня поразила. Она совершенно соответствует тому, что происходило с тобой тридцать один год тому назад. Ревматизму предшествовала ангина, затронув сердце, как это было сразу отмечено доктором Плетневым. И вот оказывается, что ревматизм не есть источник сердечной болезни, а, наоборот, болезнь сердца имеет в качестве внешних проявлений ревматические боли, опухания суставов и т. д. И именно в тот момент нужно было лечить сердце, чтобы не дать образоваться перерождениям, которые уже не поддаются исцелению.
Какое же лечение могло помочь в тот момент? Очень простое, я бы сказал – банальное: массивные дозы натриевого салицилата, который, будучи вовремя принят, являлся бы специфическим средством против перерождения сердца, и затем – покой и строгое наблюдение за состоянием. Вовремя захваченная, болезнь излечима. Нечего и говорить, что твое лечение не шло этим путем. Салицилат принимался, но только пока были ревматические явления; за сердцем никто не наблюдал, и его плохое состояние обнаружилось значительно позже, когда все уже было непоправимо. Что же касается полного покоя, о нем лучше не говорить. Ни обстоятельства, ни твой характер не давали никакой возможности удерживать тебя неподвижно в постели. Да, действительно, то, что произошло, имело свои корни там.[220]
Как ни странно, ты, не находившая впоследствии интереса в приключенческой литературе, во время той болезни слушала с удовольствием «Первых людей на Луне», «Машину времени», «Борьбу миров» и «Когда Спящий проснется» Уэллса и «Затерянный мир» Конан Дойля: профессор Челленджер весьма нравился тебе, и ты даже находила в нем общие черты со мной. Слова «Курупури, дух дремучих лесов» в моем картавом произношении очень забавляли тебя, и ты заставляла меня повторять их по нескольку раз. Мы читали и Гамсуна, который еще не был гитлеровцем,[221] и «Пан», «Виктория», «Голод», «Загадки и тайны» были нашими друзьями.
Мы прочитали чрезвычайно нежно и тонко написанные повести Лауридса Брууна из индонезийской жизни,[222] и до сих пор я не знаю, какой он был национальности и что еще написал: ни один словарь не дал мне о нем сведений. Мы прочитали несколько романов Райдера Хаггарда, и если ты одобрила «Копи царя Соломона» и «Деву Солнца», то мистическая фантасмагория «Она» («She») с продолжениями оставила тебя совершенно равнодушной. Мотивы вечной разлуки, героических страданий, частые у него, казались тебе натянутыми, неестественными (увы, как естественно приходится мне сейчас все это переживать). Подбор литературы получился, в общем, случайно: все это имелось в комбинированной библиотеке у вас в квартире наряду с очень многими другими книгами, которые мы оба уже читали раньше.
Мы ходили в театры, особенно – в Художественный и его студии, а их было четыре.[223] Я еще буду иметь случай говорить о них, так что сейчас отмечу только то, что мы видели в конце 1918 и начале 1919 годов: Ибсена «Росмерсхольм»,[224] Сологуба «Венок из роз» (так кажется),[225] Рабиндраната Тагора «Король темного покоя»[226] (чрезвычайно неудачная вещь), Метерлинка «Синяя птица»[227] (специально для Кати), Островского «Горячее сердце»,[228] Сен-Жоржа де Буэлье «Король без короны»[229] и т. д. С удовольствием смотрели в Большом театре балеты «Тщетная предосторожность»[230] и «Норвежские танцы» (на музыку Грига)[231] и без всякого удовольствия – оперы «Царь Салтан» и «Золото Рейна»[232] (с этого «золота» даже сбежали). На концертах мы бывали очень часто, и было, на чем бывать.
Для меня после тяжелых последних лет пребывания в Париже и годов, проведенных на войне, все это было внове: никогда раньше мне не приходилось получать театральные и музыкальные впечатления в таком количестве; раньше я ходил в театры редко, только когда был уверен, что действительно получу удовольствие. Я и сейчас считаю, что при такой системе имеешь больше удовольствия, и надолго запоминается, но мне кажется, что в то время пересмотреть много вещей было для меня чрезвычайно полезно.
Нужно сказать, что приходилось мне выходить и с другими лицами. Ты часто дразнила меня, даже очень недавно, моей тогдашней секретаршей Зинаидой Исаевной [Розовской] (Зиночкой, как все ее звали), а в то время у тебя по отношению к ней была некоторая враждебность – и зря. Зиночка была хорошее чистое существо, веселое, живое, смешливое, и она имела несчастье любить меня и не быть любимой. У меня к ней было очень теплое и хорошее чувство, и есть сейчас, но не то, какого ей хотелось. И я считал бы себя последним человеком, если бы как-нибудь злоупотребил положением. Пока тебя не было, она еще была спокойна и надеялась. Но когда ты появилась, она забеспокоилась и становилась все несчастнее и несчастнее. Александру Львовичу очень хотелось направить меня в эту сторону, и он все время мне толковал: «Ах, какой вы слепой человек; неужели вы не замечаете эту прелестную тургеневскую девушку; это настоящее сокровище, и как она вас любит» И он, приглашая меня иногда в театр, приглашал и Зиночку.
Так мы побывали около Рождества 1919 года на «Похищении из сераля».[233] Был очень холодный зимний день, театр не топлен: артисты мерзли, публика тоже; я сидел нетерпеливо и думал о тебе. После спектакля мы поехали к Амитиным ужинать и согреваться (Александр Львович хотел, полагая, что я ищу богатых невест, подсунуть мне и эту, действительно, богатую). В другой раз такая же штука была проделана со сборным концертом в Благородном собрании, где в первый раз я увидел ряд московских знаменитостей: балетного танцора Жукова, декламатора-певца Борисова, комика Кригера и других. А вот с тобой в том же Благородном собрании мы слушали под управлением Купера «Поэму экстаза» Скрябина и Девятую симфонию Бетховена. Последнюю ты не любила, а первая тебе не понравилась; это было одним из наших разногласий.
Вот чего мы не повидали, это – «Осенние скрипки», кажется, Сургучева, в одной из студий Художественного театра.[234] Ты очень хотела пойти; мне не удалось достать билеты, а потом пьеса исчезла из репертуара, и меня долго мучило, что я не смог удовлетворить твое желание. И еще не нужно забывать «Сверчка на печи» – чудесный диккенсовский спектакль, так хорошо, так уютно и сердечно поставленный Художественным театром.[235] А затем там же «Дочь мадам Анго»[236] с польскими исполнителями: революционная эпоха и клочки Парижа, которого ты еще не знала, а во мне они возбуждали ностальгию. И Камерный театр с «Жирофле-Жирофля»,[237] с Алисой Коонен (прекрасной, но безголосой актрисой), с забавными отклонениями от реализма Художественного театра. И Малый театр со «Старым Гейдельбергом», старой и довольно банальной пьесой, но так хорошо сыгранной и поставленной.[238] Все-таки сколькими радостями мы обязаны нашим театрам![239]
Здесь нужно поместить несколько эпизодов, прежде всего – обыск у вас и арест Ивана Григорьевича. Я уже был женихом, когда это случилось. На улице лежал еще снег и было холодно. Это значит, что дело происходило в марте месяце, не раньше и не позже. Иван Григорьевич и его друзья, такие же старые деловые люди, как и он, развлекались и утешались, собираясь поочередно друг у друга для игры в карты. Игра была тихая, «коммерческая».[240] Ставился самовар, заготовлялись бутерброды и, если удавалось достать, сладкое, и, чтобы не бродить по ночам, играли до рассвета тихо, мирно и безобидно. В вашей квартире это происходило в столовой, а мы с тобой в этот день сидели в кабинете Ивана Григорьевича и читали. И вот, часов около десяти вечера, звонок, на который я не обратил внимания, но ты сейчас же насторожилась и сказала, что происходит что-то необычное.
Мы вышли в коридор и увидели, что он полон вооруженными людьми. Человек небольшого роста в штатском, назвавшийся комиссаром чека Брадисом, предъявил приказ об обыске. Обыскали всю квартиру (а в ней было 10 комнат, не считая кухни и служб[241]): открывали все шкафы и сундуки (а их было много), и комиссар говорил солдатам: «Вот посмотрите, как живет буржуазия – сколько серебра, посуды, одежды, белья, и какое белье, и какая посуда, и какая мебель. Имели ли вы об этом понятие раньше? Вот смотрите». В столовой он увидел карты и деньги на столе: «А вот посмотрите, чем они занимаются в наше напряженное время: там, на фронте, – борьба, здесь – холод и голод везде, но не у них. Ваши документы, граждане, да не все, а только те, что тут играли».
Из документов вытекало, что все присутствующие – ответственные советские работники. «Ну, уж это из рук вон, – сказал он с возмущением. – Что за маскарад? Да и не все они тут. Где же еще один, который был в начале обыска?» А этим пропавшим был Александр Александрович Г[ейлиг], который со свойственной ему «гибкостью» сразу приспособился помогать комиссару при обыске, и после четырех часов совместной работы комиссар уже стал принимать его за члена своего отряда. Обнаружив пропавшего, комиссар покачал головой и сказал: «Ну, теперь игроки – все тут. Одевайтесь, я арестовываю вас». В этот момент раздалось несколько последовательных выпусков газа, что немного нарушило торжественность момента. Их увели.
Я остался до утра, чтобы всех успокаивать, и, как только забрезжил рассвет, стал телефонировать по всем моим влиятельным друзьям. Результат определился довольно скоро: к 10 часам утра все были освобождены, но все начальства получили предписания объявить выговор преступным игрокам. Наш Сергей Владимирович [Громан] объявил выговор Ивану Григорьевичу и Александру Александровичу в такой форме: «Очень жалею, что не участвовал в игре и не присутствовал при обыске». После этого он регулярно приглашался на все последующие «заседания». Все кончилось хорошо, но за ту ночь ты и твое семейство переволновались порядком.
Второй эпизод – встреча с твоим крестным. Это было в конце марта, когда солнце стало согревать так, что на главных улицах снег быстро исчез. Мы с тобой, а тебе к этому времени стало легче, пошли на Кузнецкий мост за покупками, и там встретили Сергея Алексеевича Р[аппепорт], которому ты представила меня как своего жениха. Он взглянул на меня критически и оценивающе и затем сказал: «А я о вас уже слышал. Так это вас Юлечка выбрала? Понимаете ли вы, какой вы счастливец?»
Я взглянул на тебя, на твое милое, весеннее, оживленное личико, и вдруг понял навсегда, что твоя избалованность, требовательность, все, чем тебя наградило воспитание в богатой семье, все это – преходящая труха, что ты – счастье, пришедшее ко мне неожиданно и незаслуженно, и что я должен тебя беречь, чтобы из-за меня твои глаза никогда не плакали, чтобы по моей вине к тебе не приходило самое маленькое огорчение и чтобы во все моменты, счастливые или тяжелые, нашей жизни я всегда был около тебя. Я слишком хорошо знал, насколько все преходяще и что нужно стараться именно в этой жизни дать своим близким максимум радости. И в тот момент я понял, что и ты, может быть, не совсем в этой форме, думаешь так же, как и я.[242]
К апрелю 1919 года стали выясняться мои университетские дела. Совет факультета избрал меня преподавателем по кафедре чистой математики, но, прежде чем приступить к чтению лекций, нужно было еще утверждение в должности Народным комиссариатом просвещения. Пришло и это утверждение. Я не медлил и с начала мая стал читать мой первый университетский курс по теории специальных функций. Слушателей у меня было немного, но они были толковые и постоянные, в числе их – и С. С. Ковнер. Я помню, с каким чувством присутствовал в первый раз на факультетском собрании и с каким уважением смотрел на моих коллег, и нужно сказать, что они заслуживали уважение.
С тех пор я перевидал много научных учреждений и научных деятелей в России и за границей. До моего вступления в преподавательский состав университета у меня бывало много раз критическое отношение к русской науке и русским ученым. В русских газетах и журналах часто утверждали, что русские диссертации списаны с немецких учебников, что профессора, достигнув положения, перестают вести научную работу, что многое делается в угоду власти. Этим согрешил и Михаил Николаевич Покровский в статье о русских университетах в одном из заграничных социал-демократических изданий. Мои грехи зависели, главным образом, от того, что я учился в Сорбонне в самое блестящее время, слушал лекции Poincaré, Picard, Darboux, ученых с мировой репутацией; слушал и многих иностранных гостей, приезжавших в Париж и никогда не доезжавших до Москвы: Lorentz, Arrhenius, Volterra, Mittag-Leffler и т. д. Это ослепляло, и Москва, конечно, была более «провинциальна».
Но со времени моего возвращения в Россию я знакомился с русской наукой и с русскими учеными, сравнивал, и у меня получалась совершенно иная картина. Я убеждался, что, например, наши механики Жуковский и Чаплыгин намного выше их парижских коллег, что работы Ляпунова глубже и точнее работ Poincaré на те же темы, что московская школа по теории функций с Егоровым, Лузиным, Приваловым и Хинчиным не ниже парижской и, во всяком случае, живее и активнее, что наши астрономы и в Пулково, и в Москве и даже в Ташкенте делают гораздо больше интересной работы, чем все вместе взятые обсерватории некоторых стран Западной Европы. Поэтому, очутившись рядом с геологом Павловым, сравнительным анатомом Мензбиром, зоологом Северцовым, астрономом Стратоновым и моими дорогими математическими учителями-друзьями, я чувствовал, что в моей жизни наступает перелом.
Я помню, как после моей первой лекции отправился к тебе, а ты ждала меня с лаской, с любовью и с чаем; помню, как ты меня спрашивала о мельчайших деталях. Пришел и Иван Григорьевич, и разговор перешел к заграничным поездкам, к Ницце, к Promenade des Anglais.[243] Он вспоминал, как каждое Рождество отряхивался от всех московских дел, брал паспорт, садился в прямой поезд и через два дня видел теплое море, пальмы, прятал шубу и отправлялся гулять в пиджаке. У него все время была надежда (увы, не оправдавшаяся), что еще раз такая поездка окажется возможной. Так мы втроем долго и дружески беседовали.
Погода стояла теплая, и нам казалось, что твое здоровье окончательно поправилось. Боли прекратились, экссудаты[244] рассосались, ты стала выходить, и я тебя сопровождал, когда только это оказывалось возможным. Мы ходили на Сухаревку для хозяйственных закупок по поручениям Марьи Григорьевны. Для меня это было совершенно платоническое занятие, потому что меня по-прежнему не приглашали, но было радостью облегчать тебе эти corvées.[245] Однако улучшение продолжалось недолго.
В середине первой половины мая Иван Григорьевич повел нас – тебя, меня, Катю и Сережу – в Большой театр на балет. Шел «Щелкунчик».[246] Это был утренник, день – теплый, но в нетопленном и пустом театре было холодно, как в погребе, а ты пошла в легком платьице и, конечно, продрогла. И все было неудачно в этот день. После спектакля Иван Григорьевич повел нас в какую-то из влачивших жалкое существование кондитерских – выпить кофе с пирожными. Кофе было бескофейное, безмолочное, безсахарное и холодное, пирожные – не сладкие и отвратительные, и бедный Иван Григорьевич был очень смущен этой неудачей. А к вечеру у тебя были боли, экссудаты, температура и полный возврат болезни в ухудшенном виде.[247]
Снова были врачи, снова лекарства, снова надоевшее тебе сидение дома. Между тем, как это часто бывает, мой большой успех потянул за собой кучу более мелких. М. Н. Покровский вызвал меня и сказал: «Теперь, когда вы стали вполне университетским человеком, мы назначаем вас членом Государственного ученого совета. А по линии Госиздата займитесь-ка, с Тимирязевым и Кривцовым, научно-популярной литературой: нам нужно сделать тут большое усилие». Пролеткульт предложил мне преподавать в высшей школе Пролеткульта[248] математику – и именно математический анализ как наиболее «диалектический» ее отдел. Так, в работе в Трамоте, чтении лекций, участии в заседаниях, заботах о тебе проходило время, и мы вступили в июнь.
10 июня ты сделала тронувший меня сюрприз. Я думал, что ты не знаешь, что это – день моего рождения, но, придя вечером к вам из университета, нашел на столе большой «английский» крендель в виде буквы «В», чудесно выпеченный и очень вкусный, совершенно не соответствующий моменту. Иван Григорьевич и дети ждали меня с чаем. В этот день я впервые почувствовал, что вступаю в семью. За чаем Иван Григорьевич с его обычным тактом дал мне понять, что, поскольку он передоверил хозяйство сестре Марье Григорьевне, ему очень трудно вмешиваться, но ее действия он далеко не во всем одобряет.
К этому же времени относится визит, который мы сделали твоему знакомому семейству доктора Доброва на Пречистенке или на Остоженке и который ты совершенно забыла: и визит, и семейство, и твою подругу. Ты мне объяснила, что это семейство – литературное (это оказалось верно), близкое к Леониду Андрееву (тоже оказалось верно), а одна из дочерей, твоя приятельница, очень симпатичная. Когда мы приехали, из старших никого не было. У твоей приятельницы были ее подруги.
Я сидел, молчал и присматривался. Решительно все мне не нравилось: истерия, снобизм, злословие, декадентство. Я совершенно не мог в тот момент понять, на какой базе основывается твоя с ними дружба. Понял потом, когда некоторое время спустя увидел эту девицу у тебя и когда лучше узнал тебя. Я знал, что, пока Иван Григорьевич располагал своим состоянием, ты получала карманные деньги, достаточные, чтобы прокормить целое семейство, но я не знал, как велика твоя доброта, как щедро раздавала ты деньги и, обратная сторона медали, сколько вокруг тебя было льстецов и паразитов. И с вашим разорением, конечно, все это скоро отпало, в том числе и m-lle Dobroff.[249]
В числе событий июня 1919 года, которые определили наше будущее, нужно упомянуть мой официальный визит заместителю декана проф. Всеволоду Викторовичу Стратонову. Визит ректору М. М. Новикову и декану А. Н. Реформатскому носили чисто казенный характер, но со Всеволодом Викторовичем мы сразу почувствовали симпатию друг к другу. Этому весьма способствовало то, что я был одним из немногих русских астрономов, знакомых с его работами.
Дело в том, что профессором университета Стратонов стал очень недавно, и к нему его астрономические коллеги относились незаслуженно критически. Блажко охотно шептал, что Стратонов провалился на магистерском экзамене в Одессе. Это было верно, но вина была не его, а профессора-механика Занчевского (кстати сказать, отъявленного реакционера), который из своего второстепенного для астрономов-наблюдателей предмета сделал серьезное препятствие, намеренно проваливая астрономов. Это, собственно, является его единственным правом на посмертную славу. Так продолжалось несколько лет, пока профессора астрономии не добились пересмотра программ магистерских экзаменов.
Провалившись, Стратонов оставил мечты об академической карьере и превратился в астронома-наблюдателя, а впоследствии – и директора, на новой Ташкентской астрономической обсерватории, принадлежавшей Военному министерству. В Ташкенте он развернул совершенно исключительную, по размаху и энергии, деятельность. Стратонов опубликовал в течение десяти лет большое количество первоклассных мемуаров по вопросам о строении звездной системы, о деятельности Солнца, о строении некоторых звездных куч, о переменных звездах – по собственным наблюдениям. Эти мемуары печатались на французском языке и быстро доставили ему широкую известность за границей.
Военное ведомство проявляло большой либерализм и давало средства щедрее, чем Народное просвещение.[250] Правда, как-то, при посещении обсерватории военным министром Куропаткиным, обратили внимание на французский язык, и министр сказал Стратонову: «В общем, я ничего не имею против, но все-таки, подумайте, если бы какой-нибудь офицер захотел почитать, что такое вы печатаете, он не мог бы этого сделать из-за языка. Печатайте же что-нибудь и по-русски».[251] Не знаю, как вышел бы Стратонов из этого положения; может быть, он, ссылаясь на это, добился бы новых кредитов, но с ним произошла беда: глаза его не выдержали наблюдательной работы, и ему угрожала слепота. Пришлось бросить обсерваторию и научную деятельность и взять место директора отделения Государственного банка в Твери.[252] Там он пробыл несколько лет и, будучи не в силах расстаться с астрономией, выпустил несколько популярных книжек.[253] Кажется, это было признано не соответствующим достоинству директора банка, и он был принужден покинуть Тверь.
В этот момент Стратонов получил предложение Наместника на Кавказе занять должность правителя канцелярии, иначе говоря – «председателя совета министров» при вице-короле, каковым фактически являлся Воронцов-Дашков. Здесь Стратонов проявил широкую деятельность, стремясь увеличить грамотность, благосостояние, расширить дорожную сеть, улучшить хозяйство. Вместе с тем он продолжал писать и печатать астрономические популярные книги и, в частности, выпустил, с невероятной роскошью, огромную монографию о Солнце.[254] Погубили его либерализм и астрономия, и с уходом Воронцова-Дашкова с Кавказа Стратонову пришлось снова стать директором банка – в Ржеве.[255] Там он выпустил менее роскошную, но солидную монографию о звездной вселенной.[256]
Пришла революция, банки закрылись, но для Стратонова открылся доступ в университет: он поставил свою кандидатуру в профессора астрономии, был избран, стал читать курс общей астрономии, а факультет, почувствовав в нем человека с большим административным опытом, избрал его помощником декана. Профессора астрономии на него косились, распространяли о нем сплетни, – он это знал, и потому ему было вдвойне приятно, когда я сообщил, что в Париже говорят о его работах с уважением. Он сейчас же спросил меня, что я думаю о Пулковской астрофизике. Я ответил, что там ряд почтенных людей сделал много интересных работ, но для современной астрофизики Пулково слишком бедно оборудовано и устарело. «Не правда ли?» – с живостью сказал он и сейчас же показал мне свой проект организации на юге, преимущественно в горах, большой астрофизической обсерватории. Узнав, что я – член Государственного ученого совета, он попросил меня оказать содействие при прохождении этого дела в ГУС, что я ему охотно обещал.[257]
В Государственном издательстве мы, трое – Степан Саввич Кривцов (мой старый товарищ по 1905 году), Аркадий Климентьевич Тимирязев (сын знаменитого ботаника) и я – образовали очень дружную коллегию и занялись пересмотром тех книг, которые можно было бы выпустить без хлопот, а также составлением списка заказов. Работа была большая и интересная, и мы делали ее радостно.
Твое здоровье стало улучшаться, но городской воздух был явно вреден, и Иван Григорьевич решил отправить тебя и Катю на дачу к твоей тетушке Анне Сергеевне Ш., сестре матери. Для нас встал вопрос, как же быть. Мы с тобой пошли к тетушке, и она проявила ко мне (и, следовательно, к нам) гораздо больше симпатии и отзывчивости, чем твои тетки по отцу.
Дача находилась в трех вестах от станции Мамонтовка по Ярославской железной дороге. В нижнем этаже жило семейство фон Гиргенсон, верхний этаж занимала Анна Сергеевна с мужем Константином Леопольдовичем и двумя дочерьми – твоими кузинами и ровесницами. Анна Сергеевна уступила одну комнату тебе и Кате, согласилась кормить, но ей действительно некуда было меня поместить, и притом Иван Григорьевич никогда бы не допустил такого неприличия. Для меня нашли меблированную комнату на одной из дач у некоего спекулянта, впоследствии – нэпмана, Стрелливера, жившего там со своей дамой сердца, очень бойкой особой. Мебели у меня не было никакой и приобрести ее было невозможно. Мы нашли матрац, ты достала металлический кувшин, гвозди и стул, – так создался для меня элементарный «уют».[258]
Местность и дача были прелестные. Дача находилась в огромном парке в одном из углов лужайки, окруженной аллеей лип, с клумбами с прекрасными цветами и, естественно, огромной елью посередине. От лужайки дорожка шла через огород с фруктовыми деревьями к теннисной площадке, очень запущенной и поросшей травой, а оттуда сеть аллей уходила во все стороны в парк и к отдаленному лесу. Дорожка в другую сторону от лужайки вела к реке Клязьме, которая в этом месте предоставляла много удобных мест для купания и ряд весьма живописных обрывов. Через лес можно было с удовольствием выйти к дачной местности Пушкино, где когда-то семилетним мальчиком я гостил с отцом у друзей.
В другие стороны также шли очень приятные дорожки, и мы ходили гулять, или за покупками, часто с Катей, реже с тетей Асей и твоими кузинами. Константин Леопольдович, о дурном характере которого мне наговорили много у тебя дома, оказался любезнейшим человеком, весьма неглупым, несмотря на буржуазность до мозга костей. Он никак не мог понять, что происходит, и мы с ним часто спорили, оставаясь всегда в пределах корректности. Тетя Ася была очень ласкова с племянницами и со мной.
По будним дням, после всех моих служб и внеслужебных занятий (к счастью, в университете настали каникулы до сентября), в часа четыре вечера я отправлялся на вокзал, чаще всего в автомобиле и с большим количеством пакетов, кое-как влезал в переполненный поезд, и через сорок минут была Мамонтовка. Немного покряхтывая под грузами, я направлялся по знакомой дорожке к даче и очень часто в каком-нибудь месте дороги встречал тебя с Катей, иногда в сопровождении целой компании молодежи. Дни были длинные, и часы были переведены на три часа, так что темнело поздно, и можно было прекрасно использовать конец дня. К ночи я уходил к себе на дачу, всегда провожаемый тобой и Катей, – ложился и спал до пяти часов; вскакивал, наполнял кувшин холодной водой, вешал его на дерево и обдавался; одевшись, бежал к вам на дачу, быстро выпивал кофе и бежал на вокзал, чтобы не пропустить утренний поезд.
И вот, при таком светском образе жизни, особенно перед лицом тщательно одетого Константина Леопольдовича, встал вопрос о костюме, сколько-нибудь приличном, и о бритье. В городе я брился у парикмахера через день, но как быть на даче, когда остаешься на лишний праздничный день? Бриться обыкновенной бритвой я не умел, а безопасной не было. И вот в одно прекрасное утро ты нашла, что мой подбородок непристоен, нашла где-то бритву и заявила решительным тоном, что ты сама меня побреешь. Что это было?! Я никогда, ни раньше, ни позже, не видел такой ободранной физиономии, и ты, бедненькая моя, была чрезвычайно сконфужена таким результатом, хотя я и говорил тебе, что от твоих родных ручек для меня все хорошо. К моему удивлению и конфузу, вернувшись через сутки на дачу, я получил от тебя «свадебный» подарок – безопасную бритву наилучшего качества с большим количеством запасных лезвий. Эта бритва сопровождала нас всюду и была бы и сейчас со мной, если бы ее не украли немцы в 1944 году.
Обновить костюм было гораздо труднее, а внизу брюки особенно износились. Ты достала обмотки, которые придавали нижней части моих ног более спортивный и приличный вид.
Иван Григорьевич приезжал по праздникам. Он был очень недоволен моим воцарением в Мамонтовке, и тете Асе с дядей Костей стоило большого труда убедить его, что ничего страшного нет, что с общественным мнением все в порядке. Поворчав, он уступал, как, впрочем, это всегда с ним бывало, и даже подарил нам золото на обручальные кольца. Золото это, как ты сказала, было счастливое, и ты заказала кольца. Они и сейчас – тут, и я плачу, глядя на них: мое большое и твое маленькое-маленькое; счастье у нас действительно было.
В связи с кольцами мне очень памятно одно маленькое происшествие, однако для меня чрезвычайно важное. У тебя и тогда была привычка, против которой я всегда возражал, снимать кольца и класть их в какой-нибудь кармашек, когда ты начинала что-нибудь делать. Перед каким-то праздником ты с Катей месила тесто для кренделя, полезла за чем-то в кармашек и обнаружила, что обручальное кольцо исчезло. Мы искали долго, везде и не находили, и я сказал полушутливо-полусерьезно: «Что же делать, надо заказывать новое; это утратилось».
Тогда ты вдруг тяжело задышала, села, и твое родное личико стало жалким и расстроенным, а Катя заговорила: «Не волнуйся, не волнуйся, моя прелесть, не слушай его. Он тебя дразнит, жестоко и нехорошо. Не волнуйся, моя милая, добрая, чуткая, всегда внимательная, всегда заботливая, настоящая мать для меня, Сережи и даже для папы. Не волнуйся, Вава тебя дразнит. Он не знает еще тебя и не знает, как тебе вредно волноваться». И тут вдруг я понял, что действительно не знаю тебя, хотя и люблю; что каждое Катино слово верно. Все мои разрозненные наблюдения сопоставились, и я увидел, какое счастье для меня, что ты вошла в мою жизнь. И я дал себе слово не волновать тебя, заботиться о тебе всегда, всегда. А кольцо мы нашли: оно закаталось в тесто, и я не помню, кто из нас догадался произвести эту проверку.[259]
В течение этих дачных недель я возобновил еще одно знакомство, также имевшее некоторое значение для будущего. Я имею в виду Петра Петровича Лазарева. Первое знакомство у нас состоялось еще в 1904 году на студенческой скамье в университете. Я был третьекурсником, а он, уже врач, был принят на третий курс, чтобы в течение года подготовиться к государственному экзамену. Меня представили как sujet d’élite[260] №1, что ему не очень понравилось, так как всегда и везде он считал себя первым, и наше знакомство далеко не продвинулось. О его дальнейших успехах я читал в газетах: о том, что он – лучший ученик Лебедева, о его уходе из университета в 1911 году вместе с другими физиками после отставки Лебедева,[261] об организации на собранные по подписке средства Физического института, в котором должны были найти приют все ушедшие из университета физики. С большим удивлением я прочитал в «Русском слове» статью Климента Аркадьевича Тимирязева о ловкости рук Лазарева, который сумел остаться в построенном институте единственным хозяином и не дал места для работы ни одному из своих товарищей.[262]
Вернувшись из заграницы в 1916 году, я, по совету Н. Н. Лузина, повидался с Лазаревым для беседы об одном физическом вопросе, который интересовал в разных аспектах и меня и его. Из свидания, конечно, ничего не вышло. И вот теперь, в 1919 году летом, мне пришлось снова побывать у него для беседы по вопросу о Курской магнитной аномалии, которой интересовался Наркомпрос. На этот раз Петр Петрович был любезнее и даже предложил мне участвовать в математической разработке наблюдений, указав, что именно его интересует, но совершенно отказался от разговоров в ведомственном плане, находя, что от Наркомпроса ничего хорошего ждать нельзя. Действительно, Наркомпрос был беден, а на дверях Физического института были вывески: «Н[ародный] К[омиссариат] по военным делам – Высшая школа по военной маскировке», «ВСНХ – Главное управление горной промышленности – Лаборатория», «Н[ародный] К[омиссариат] здравоохранения – Рентгенологический институт» и т. д. и т. д. Во время этого моего визита Петр Петрович охотно показал мне институт – прекрасно построенное здание, но производимой работы я не увидел. По пути он провел меня мимо решетки из деревянных планок, где на каждом перекрестке была прикреплена проволокой картонная трубочка, и на мой вопрос объяснил, что это – модель кристалла и что каждая трубочка означает молекулу. Во время моего следующего визита он водил по институту представителей Наркомздрава, и тут уже решетка с трубочками оказалась моделью нервной ткани, а картонные трубочки изображали нервные клетки.
Когда я рассказал об этом Тимирязеву, он засмеялся и в свою очередь рассказал мне о том, как Лазарев получил от банкира Марка деньги на рентгенологическую лабораторию. У него не было ни приборов, ни работников, ни работы, но он объехал все московские лаборатории и занял все приборы, какие могли ему дать, якобы для выполнения спешного военного задания. Лазарев расставил приборы в одной из пустовавших зал института и к приезду Марка засадил за приборы своих студентов. Затем, проведя Марка по институту, он усадил его в своей личной лаборатории и приступил к «эффектному» опыту: накалил кварцевую пробирку (тогда – большая новость), бросил ее в ледяную воду и сказал: «Видите, она не лопнула». Пораженный Марк с эти согласился. «Так вот, – продолжал Лазарев, – нам для организации всех работ, которые вы видели, нужно 30 000 рублей». И немедленно их получил. На следующий день он вернул приборы владельцам, а еще через несколько дней открыл в институте, с большой помпой и к общему удивлению, настоящую рентгенологическую лабораторию. Так вот, мне с этим гангстером пришлось работать по разным ведомствам в течение нескольких лет, о чем еще буду говорить.[263]
Тимирязев-сын – физик, ученик Лебедева – оказался очень хорошим товарищем по работе в Госиздате и как-то пригласил меня к себе, и тогда я имел счастье встретиться с его отцом, которого уважала вся Россия, а студенты боготворили. Не мне говорить о его научных заслугах; от ботаники в то время мы, математики, были очень далеки, и мне никогда бы не пришло в голову, что впоследствии я стану специалистом по математической биологии. То, что нас привлекало в Тимирязеве, – это благородная смелость в борьбе против несправедливостей и против преступного режима. Тимирязев никогда не молчал, никогда ничего не замалчивал, и голос его раздавался смело и открыто. Его статьи в «Русских ведомостях» – либеральной, но не революционной газете – были шедеврами искусства сказать то, что нужно, не употребляя громких слов. Он много печатал воспоминаний о заграничных поездках, о встречах с крупными учеными, и каждая его статья была гораздо дальше своего непосредственного сюжета. Недаром демонстрации 5 и 6 декабря 1904 года начались дружеской демонстрацией у дома К. А. Тимирязева и его ответной речью.
Супружеская пара, Климент Аркадьевич и его жена, представляла очень трогательное зрелище, какое для постороннего глаза, вероятно, представляли и мы с тобой, а именно – любви и дружбы, бережно хранимой на протяжении десятков лет, и полной солидарности и взаимной поддержки перед внешним миром. Я был принят чрезвычайно ласково, и мы много говорили о текущем моменте, далеко не во всем оказываясь солидарными, но и не очень расходясь. Главная разница была в оценке университетской профессуры, к которой он относился подозрительно, и не без основания, и главное сходство – в совершенно отрицательном отношении к Академии наук и полном недоверии к ее чиновничьей покорности по отношению к советской власти. «Эти штукари, – говорил он, – рады подоить любую коровку; надеюсь, что власть не поддастся на эту удочку». Я был тем более согласен с ним, что незадолго перед этим обедал у П. П. Лазарева с Алексеем Николаевичем Крыловым и его женой и слышал весьма неаппетитные разговоры обоих академиков. Тем более приятным контрастом для меня являлась эта хорошая семья и этот старый, но не угомонившийся борец.[264]
В июле 1919 года я взял отпуск и совсем поселился в Мамонтовке. Мне вспоминается очень многое, но сразу приурочить к определенным датам я не могу. Вот, например, наша поездка с тобой и Катей в Троице-Сергиевское на рынок. Выехали поездом очень рано при чудной погоде. По всем промежуточным станциям подсаживались едущие туда же – покупатели и продавцы со всякими товарами. Особенно много было баб с грибами и ягодами. Очевидно, леса (а их там много) очень богаты грибами, потому что нигде я не видал такого их обилия и притом наилучших белых и красных маленьких ядреных подосиновиков. В Сергиеве все было пестро и живописно: сама старая лавра с ее варварской росписью; огромный рынок, где все можно купить; очень пестрая публика, где все социальные слои были перемешаны; широкий товарообмен, где проходило всё. Нам было дано обширное задание: приволочь провизии на несколько дней, и мы приволокли. Съездили и весело вернулись.
Помню день рождения Ивана Григорьевича, который праздновался в том году в Мамонтовке. Столы выставили наружу, так как стояла чудная погода. Были приглашены все дачные знакомые: и фон Гиргенсоны, и мой Стрелливер; многие приехали из Москвы. На столе был огромный свадебный крендель; тетя Ася накормила всех прекрасным обедом, завершившимся твоим любимым Saupe anglaise;[265] было много вин и водок. Летали стрекозы и ласточки, и я с большим любопытством изучал человеческую фауну. Ты была весела и ласкова, как всегда, со всеми, но Иван Григорьевич смотрел на меня хмуро. По-видимому, он думал, что твоя блажь скоро пройдет; когда же увидел, что дело серьезно и, в особенности, что я, находясь в отпуске, уже провожу целые дни около тебя, начал опрашивать дам – тетю Асю, старую Гиргенсон – и еще более обеспокоился. Не знаю, что ему наговорили, но он, перед отъездом, заявил тебе, что если дело обстоит так (а что означает это «так», мы так и не узнали), то уж, господа хорошие, потрудитесь обвенчаться.
Мы ответили, что только этого и хотим, и я отправился в Москву, чтобы привести в порядок наши документы и побывать для справок в отделе записи гражданского состояния (загсе). Заведующий этим отделом дал мне список всех необходимых документов, по которому я все подготовил и явился для предварительной записи. Он нервно взглянул и сказал: «А вот у вас нет того-то и того-то». Я показал ему его же список, и он ответил: «Ну что же, произошли перемены; приходите со всеми этими документами и одним свидетелем».
Через несколько дней являюсь с Александром Львовичем. Дзиковский (так, кажется, была фамилия заведующего) смотрит мои документы и победоносно говорит: «А вот еще не хватает того-то». Тут уже я вскипел: «Послушайте, товарищ, потрудитесь сразу говорить все, что нужно. Я вам – не мячик, чтобы бегать сюда по много раз и всегда без толку». Тогда он начал орать: «Убирайтесь вон и больше не приходите. Как вы смеете говорить так со мной, коммунистом и ответственным работником!». Тут из толпы ожидавших раздался спокойный голос: «Товарищ, потише; я – тоже коммунист и ответственный работник и нахожу ваше поведение возмутительным, и это – не первый раз. Потрудитесь сказать оскорбленному вами товарищу, что нужно сделать, чтобы все было окончательно. А вы, – продолжал он, обращаясь ко мне, – подождите меня немножко, пока я кончу свое дело; мы с вами пройдем кой-куда». Действительно, он с нами прошел в канцелярию народного суда, и там я подал жалобу, записав в качестве свидетелей Александра Львовича и Зенченко (фамилия моего неожиданного заступника).
Повестка из народного суда пришла мне, но в ней значилось, что я вызываюсь как потерпевший по моей жалобе и как обвиняемый по жалобе Дзиковского, который обвинил меня в нарушении тишины и порядка. Состоялся суд; народным судьей оказалась твоя подруга по гимназии Вяземской. Мои свидетели явились и дали свои показания, убийственные для Дзиковского, которому так и не удалось найти ни одного свидетеля. Приговор: я оправдан, а Дзиковскому объявлено общественное порицание с доведением приговора до сведения Моссовета и партийной организации. С этого момента в московских деловых кругах говорили уже о нашем браке как о браке скандальном, а не только неравном. После приговора я снова явился к корректному на этот раз Дзиковскому; все оказалось в порядке, и нам был назначен день бракосочетания: среда 27 августа.
Пока все это происходило, кончился июль и начался август; образ нашей жизни был тот же – только приходилось несколько чаще ездить в Москву и иногда обоим, так как требовалось обсудить и подготовить много вещей для предстоящего торжества. Я вполне был готов удовлетвориться гражданским браком в самой скромной обстановке, но не так смотрела на это твоя семья. Иван Григорьевич требовал церковного брака, и, так как я решительно отказался от православной церемонии, было решено повенчать нас в воскресенье 31 августа по реформатскому обряду. После этого должен состояться goûter[266] (обед стоил бы слишком дорого) с винами, закусками, пирожными, фруктами и т. д., и т. д. и с большим количеством приглашенных.
После торжества мы с тобой должны были еще вернуться в Мамонтовку и там прожить несколько недель до окончательного переезда в Москву. И здесь встал для нас ряд вопросов, которые мы с тобой решили вполне солидарно, хотя ты и не вполне знала все мои мотивы. Первый вопрос – о материальном моем участии в этом торжестве: оно было просто невозможно. Все мои ресурсы поглощались разъездами и пансионом у тети Аси. Ни покупать что-нибудь, ни участвовать в расходах было для меня невозможно. Я даже не мог прилично одеться, и венчаться приходилось в моем повседневном костюме (военном) плюс тех же обмотках. При этих условиях я решил не приглашать на свадьбу никого со своей стороны, и ты поняла меня и одобрила. В тот момент это могло показаться тебе моей излишней черствостью, потому что ты судила по себе и думала, что если я вхожу в семью, то все, а следовательно, и я сам, будут меня рассматривать как члена семьи. Через несколько недель ты вполне поняла правильность моего решения.
Встал еще вопрос о приглашении моих родителей. Я решил их также не приглашать, а просто написать им после свадьбы, и этого моего решения ты не поняла, а я почему-то не объяснил тебе оснований ни в то время, ни потом; вероятно, ты, со свойственной тебе деликатностью и тактом, обходила этот вопрос, который, однако, чрезвычайно прост. У меня было некоторое недовольство равнодушием моих родителей к моей судьбе (так мне в то время казалось). Виноват в этом был я сам. Как волновались они, когда на Рождество 1904 года я приехал в Смоленск весь в ранах и бинтах – «героических ранах», как любил, с его романтизмом, выражаться папа. Как волновались они во время восстания в Москве в декабре 1905 года, зная, что я командую боевой дружиной и нахожусь все время в огне; папа с первыми же поездами приехал, разыскал меня и увез в Смоленск. Как волновались они в 1906 году, когда я работал в боевой организации, и в 1907-м, когда уехал в Петербург и был там арестован. Как волновались, приезжая по очереди в Петербург во время полутора лет моего сидения, и как волновалась мама на военном суде.
И когда в 1917 году, проделав Февральскую революцию, я оказался на фронте на очень опасном посту, и об этом писали много раз в газетах, они тоже волновались, но не могли ничего поделать, и не писали, чтобы меня не расстраивать и самим не расстраиваться. Я же, получая много писем отовсюду и ничего не получая от них, принимал это за равнодушие. Так вот этим и было продиктовано мое решение, о чем я не рассказал тебе как следует. Ты считала, что у меня – очень плохие отношения с родителями, и была очень удивлена, когда от них, в ответ на мое письмо, было получено радостное и ласковое, где мама писала: «Хочу во что бы то ни стало и поскорее видеть Юлю; приезжайте к нам, как только сможете».
К августу мой трамотовский отпуск кончился, и я снова вел бродячий образ жизни: утром – в Москве, а к вечеру – в Мамонтовке. Тут нужно упомянуть один эпизод, сильно повлиявший на отношение Марьи Григорьевны ко мне и к тебе. Как-то вошел ко мне в кабинет улыбающийся толстый господин и отрекомендовался как представитель государственного контроля Махлин. «Бывший присяжный поверенный», – добавил он. Затем спросил, не из Смоленска ли я, и, узнав, что – да, стал хвалить моего отца как преподавателя, как общественного деятеля и как честного человека, никогда не кривившего душой. «Мы, – сказал Махлин, – всегда восхищались, когда он, в 1912 году, один выступил в педагогическом совете на защиту учеников, выгоняемых за политику. И ведь он пострадал за это, с достоинством ушел из реального училища, и сейчас же ему нашли еще лучшее положение в коммерческом училище». Затем, остро взглянув на меня, прибавил: «И я вижу, что яблочко недалеко падает от яблоньки».
Я с недоумением слушал эти комплименты. Я привык, что папу всегда хвалили все, его знавшие. Но при чем тут я? Он заметил мое недоумение и сейчас же разъяснил: «Я только что ревизовал хозяйственный подотдел, которым ведает родственник вашей невесты – Александр Александрович Г[ейлиг], и нашел ужасающие безобразия. Я решил было передать дело суду, но, увидев вашу фамилию, зашел, чтобы поглядеть, что за человек. И если бы вы не походили на вашего папашу, то дело пошло бы в суд. Ну, а теперь смотрите…» Я посмотрел и ужаснулся. «Ну что же, – сказал я ему, – не имею ни малейшего желания покрывать Александра Александровича; раз заслужил суд – в суд!» Махлин поморщился: «Видите ли, время-то сейчас уж очень суровое; в нормальное время было бы несколько лет тюрьмы, а сейчас будет “стенка”. Давайте лучше его вызовем; вы его распушите и переведите на должность, где нет искушений». Так мы и сделали.
Александр Александрович пришел, расстилал спереди и сзади свой лисий хвост, начал было спорить, но, будучи взят в тиски, замолк, и тогда заговорил я, как редко говорю, ставя ему на вид всю гнусность его поведения. Вышло так, что Иван Григорьевич заскочил тогда на минуту ко мне в кабинет и сейчас же выскочил обратно, а вечером говорил: «Ну и баню вы задали моему шурину, и поделом. А я вот послушал вас на высоких тонах…» – «Ну и что же? Неприятно?» – «Да уж, не очень».
Покончив с делом, Махлин остался поболтать и затем сказал: «Я не знаю, какова ваша невеста, но тесть у вас – первый сорт». А Зиночка разъяснила: «И невеста – тоже первый сорт». Я упоминаю этот эпизод, во-первых, для объяснения постоянной враждебности к нам со стороны Александра Александровича и его жены, а затем, чтобы показать, как на наш брак смотрело «общественное мнение». Все знали и помнили, какое у Ивана Григорьевича было состояние и положение в деловом мире; все считали, что я – охотник за приданым и вдобавок удачный охотник. Но этого рода комплименты совершенно мне не нравились. Я и ты знали, что никакого приданого Иван Григорьевич дать не в состоянии, что никакого разговора об этом у нас с ним не было и никогда не будет и что собственный труд поможет нам устроить наши дела. Я знал (а ты не знала), что наилучшее сокровище, которое может дать мне Иван Григорьевич, это – ты сама, и ничего другого мне не нужно.
Но все эти пересуды меня все-таки раздражали, и, заранее настроенный враждебно, я готовился предстать 31 августа перед деловой Москвой.[267]
Так время подошло к 27 августа – нашему гражданскому браку. Мы с тобой вдвоем, самым скромным образом, отправились в загс, чтобы «расписаться» у того же товарища Дзиковского в книге. Он был совершенно спокоен и корректен, прочел нам статьи узаконений, спросил, продолжаем ли мы желать венца, и затем сделал соответствующую запись в регистре и выдал нам бумагу – брачное свидетельство. Если не ошибаюсь, загс находился или на Кузнецком или где-то поблизости. Мы пошли в какое-то кафе на Кузнецком, чуть ли не рядом с Вольфом,[268] и там вдвоем, и очень весело, выпили дрянного кофе с таковыми же песочными пирожными. Затем мы направились в Архангельский переулок, где никто нас не поздравил, так как для всех главной церемонией была та – воскресная.
Пришло и это воскресенье. С утра из Трамота пришла моя курьерша – вороватая и очень хорошая и преданная нам женщина, чтобы помогать в приготовлениях. К 12 часам, часу венчания, стали сходиться гости: их было очень много, и из них я не знал никого, кроме твоего крестного и партнеров Ивана Григорьевича. Пришел пастор – почтенный человек, который спросил меня, желаю ли я службу на русском или немецком языке. Я высказался за русский. Все сосредоточилось в большом салоне. Пришла и ты в светлом весеннем платье и с цветами, но без фаты, шлейфа и fleurs d’orange,[269] и стала рядом со мной.
После молитв и чтения пастор обратился к нам с прочувствованным, простым и, в общем, вполне уместным словом. Затем он спросил нас, желаем ли мы стать мужем и женой, сначала меня, а затем тебя, и ты ответила решительно, определенно и как бы с вызовом. И я опять почувствовал, что в мою жизнь вошло большое и прочное счастье, и решил тщательно, во всех отношениях, на всех путях наших, оберегать его от всех внешних натисков, а прежде всего от нас самих и еще, прежде всего, от себя самого. Об этом я думал, стоя рука об руку с тобой и чувствуя то же, что чувствовала и знала ты, что это «всерьез и надолго», а вовсе не на три месяца, как нам предсказывали.
Все стали подходить и поздравлять нас; были свадебные подарки, среди них – и ценные, но совершенно никуда неприменимые. Наилучший подарок был от Александра Львовича: два абонемента на цикл бетховенских симфоний под управлением Кусевицкого. Затем начались закуска и выпивка. Меня познакомили с рядом лиц, но я запомнил немногих: прежде всего – Мирзу Мухетдинова, как будто прилетевшего на грифоне из стран «тысячи и одной ночи», и его сыновей. Он показал мне свои простреленные уши и рассказал, как бежал из Бухары верхом и как за ним гнались всадники, посланные эмиром, чтобы взять его живым или мертвым; уши ему прострелили, но он все-таки ускакал.[270] Мне очень понравились его сыновья: сдержанный и умный Мирза-Исам, тонкий и чуткий Мирза-Амин.
Познакомили меня и с Аршиновым и, конечно, рассказали анекдот о его юбилее, когда друзья поднесли ему золотой аршин в 15 вершков отпускать товар покупателям и серебряный аршин в 17 вершков принимать товар у оптовиков. Мне он понравился: умный и крепкий старик. Понравился и его сын, который вышел не в отца: получил хорошее образование и преподавал геологию в Коммерческом институте; после октябрьского переворота передал Наркомпросу небольшую астрономическую обсерваторию, выстроенную на отцовские средства. «Видите, – сказал мне старший Аршинов, – мы, современные купцы, предпочитаем этот путь для замаливания грехов». С младшим Аршиновым мы часто встречались впоследствии в разных научных и правительственных учреждениях. Это был пресимпатичнейший идеалист, совершенно лишенный буржуазно-купеческой закваски.
Познакомился я и с твоим давним поклонником Эмилем, которого все происходившее явно огорчало, но Иван Григорьевич очень ласково угощал его и немножко подбодрил. Часов около четырех тетя Ася посмотрела на часы и сказала: «Ну, дети, собирайтесь; поезд ждать не будет». И мы отправились в Мамонтовку, где нас ждал прекрасный обед с домашними пирожными, пирожками и, конечно, «Soupe Anglaise» – огромными порциями. Конечно, нам уже дали комнату на самой даче, и к Стрелливеру (лейка, гвоздь и матрац) я не вернулся.
Кстати, я сейчас припомнил, что именно напугало Ивана Григорьевича и заставило его ускорить нашу свадьбу. Незадолго до его дня рождения я заболел гриппом в тяжелой форме и остался лежать на своем матраце. Ты прибежала, ужаснулась, и вы с Катей принесли мне лекарства, пищу и несколько улучшили мой «комфорт». Болезнь моя длилась недолго, но ты не раз забегала ко мне одна, и дамы донесли об этом Ивану Григорьевичу.
Когда я появился в Трамоте, Сергей Владимирович Г[роман] поздравил меня и упрекнул, что не позвал его. Я ответил, что у меня были две причины: первая – наша дружба, а из своих друзей я не звал никого, а вторая – то, что он является начальством, а по духу советских служебных нравов совершенно не годится звать на свадьбы начальников: дурной вкус, заискивание и некоторое стеснение для тех из приглашенных, кто работает в Трамоте.[271]
Во время нашего краткого послесвадебного пребывания в Мамонтовке нам пришлось обсудить много практических вопросов и принять ряд решений, и, на мой взгляд, все было сделано неправильно. Но в тот момент иначе поступить было нельзя.
Первый вопрос: где мы будем жить? Я хотел, чтобы мы поселились отдельно от твоей семьи – скажем, там, где жил я, то есть [в доме] 13 по Мясницкой улице в квартире Гашкевича, который предлагал мне две хорошие меблированные и отапливаемые комнаты, в общем независимые от его помещения. Тебе же хотелось жить при отце – и вовсе не по соображениям семейного уюта (мы уже знали, какого сорта этот уют), но чтобы предохранять его от многих весьма реальных опасностей, так как мое положение, как ответственного советского работника и вдобавок преподавателя университета, было гораздо прочнее, чем положение Ивана Григорьевича. На это я отвечал, что моего влияния не хватит, чтобы защищать квартиру из десяти комнат, и что самое разумное для Ивана Григорьевича было бы переселиться куда-нибудь в более скромное помещение, где вдобавок ему не будет все портить его положение бывшего домовладельца. Но тут начинались единодушные протесты: во-первых, мотивы сентиментальные, обжитость помещения, память о покойной Густаве Сергеевне, затем мотивы деловые, а вернее – квазиделовые: куда деваться с монументальной мебелью, со всеми вещами, с десятками кресел, диванов и т. д.? Я отвечал: оставить себе необходимое и скромное, а остальное продать; этого уже никто не хотел слушать.
Итак, в конце концов мы поселились в Архангельском переулке, и никто, начиная с Ивана Григорьевича, не поверил в бескорыстность нашего решения, хотя ты приняла его и настаивала на нем из искренней и вполне бескорыстной любви к отцу и семье. Мне до сих пор странно, до какой степени все они не знали тебя и не верили тебе. И сейчас же был поставлен вопрос: собираюсь ли я оплачивать свое питание? Я ответил, что собираюсь оплачивать не только свое, но и твое, и не понимаю такой постановки вопроса. Тогда вмешалась тетя Маня и заявила, что из любви к брату согласна заботиться об Иване Григорьевиче и его семье, но кормить «Юлию и ее мужа» не собирается, и если «Юлия и ее муж» хотят питаться, то пусть сами заботятся об этом, но двум прислугам, которые у вас были, не позволит нас обслуживать. Это было уже открытое объявление войны, но тут запротестовал Иван Григорьевич, который сказал, что «Юлия и ее муж» – члены его семьи и что он просит об этом помнить.
Вопрос разрешился, но положение получалось странное: мы, так сказать, жертвовали своими интересами, оставаясь в этой квартире, но оказывались там гражданами второго сорта, только терпимыми, но вообще мало желательными. Я помню, как ты, бедненькая, чувствовала себя неловко и старалась убедить себя и меня, что все это только так, временно. Убедить меня было довольно трудно, а сделать так, чтобы я почувствовал себя членом семьи, совершенно невозможно. Так оно и осталось, и усилилось, потому что для усиления было потом еще достаточно причин. Но, чтобы тебя не расстраивать, я ничего не говорил и старался, со своей стороны, не давать поводов для осложнений. В таких условиях приблизительно к середине сентября 1919 года мы переселились из Мамонтовки в Москву, дружески расставшись с гостеприимной тетей Асей и дядей Костей, который всегда называл меня «дядей Володей».
Нам отвели для жительства кабинет Ивана Григорьевича. Это была огромная, но очень уютная и уютно обставленная комната. Пока не начались холода, в ней было очень хорошо, и первый вечер мы чувствовали себя совершенно счастливыми. Нам дали маленький самоварчик, и мы готовились пить чай вдвоем, не выходя в столовую. Ты сказала: «Достань, пожалуйста, чашки из книжного шкафа» (который служил нам буфетом) и прибавила: «Это – очень красивые чашки из старинного японского фарфора. Их было много, но остальные все побились; остались только эти; я очень их люблю». Я пошел за ними с подносом, уставил, понес обратно, и здесь моя нога зацепилась за ковер: я покачнулся, поднос покачнулся, чашки упали на пол и разбились. Со стыдом и смущением ждал, что будет: ведь я все-таки еще мало знал тебя. И не было ничего. Ты была очень огорчена, это было видно, но мне не сказала ни слова и, когда заметила, что я – не в своей тарелке, дружески улыбнулась, положила свою ручку на мою руку и сказала: «Ничего, не смущайся», – и я опять почувствовал, что, действительно, в мою жизнь вошло с тобой настоящее счастье.
В первую очередь мне пришлось заняться моими университетскими делами. В течение лета было произведено объединение всех трех университетов, находившихся в Москве, т. е. в настоящий Московский университет влились Высшие женские курсы и Народный университет Шанявского.[272] Первое же заседание математической предметной комиссии оказалось весьма многолюдным, и тут я познакомился с очень многими интересовавшими меня людьми.[273]
Меня очень интересовал В. П. Шереметевский. Он был, так сказать, моим первым, хотя и заочным, наставником настоящей, то есть высшей, математики. Я был гимназистом шестого класса, и первые три рубля, которые заработал уроками, употребил на покупку «Элементов высшей математики» Лоренца в переводе и с огромными дополнениями Шереметевского.[274] Эта книга, которая охватывает историю математики, ее философию и элементы аналитической геометрии и анализа, была для меня откровением. Впоследствии, уже после смерти Шереметевского, я подготовил ее к новому изданию[275] и видел, конечно, все ее слабые места. Но у меня сохранилась слабость к Шереметевскому, сменившаяся при личном знакомстве большой симпатией. Это был старый идеалист, которых много среди нашей интеллигенции. Конечно, личной научной работы он никогда не вел, но, будучи прекрасным педагогом, превратил довольно скудную книжку знаменитого голландского физика Лоренца в живо написанную энциклопедию математики. Когда я познакомился с ним, он был уже на склоне лет, но обладал еще большой живостью и остроумием.
Через несколько недель Шереметевский внезапно умер, и мне был передан его курс высшей математики для натуралистов, читавшийся в помещении Народного университета Шанявского. Кроме этого курса, я получил еще курс интегральных уравнений и курс дифференциальных уравнений математической физики. Так постепенно я обрастал занятиями по моей прямой специальности, и мне уже не хватало времени. На заседаниях Государственного ученого совета я познакомился с представителями Научно-технического отдела ВСНХ, и мне было предложено стать там членом коллегии, на что я охотно согласился. Я все еще продолжал работать в Трамоте, как и ты, но для меня все более и более становилась ясна полная несовместимость этой работы с моими научными занятиями, и я решил при первой возможности уйти.[276]
Вернемся к нашей жизни дома. Вот мы сидим за столом в Вашей огромной столовой: Иван Григорьевич, Катя, Сережа, Марья Григорьевна, Александр Александрович, их сын Котя (Константин) и их постоянный спутник Илья Аркадьевич Мильман. Марья Григорьевна священнодействует. Тонкими ломтиками нарезан хлеб и строго поровну распределен. В великолепной фарфоровой миске налита невероятная бурда, называемая супом, и также строго поровну распределяется. Я с некоторым удивлением – после прекрасного питания у тети Аси – беру в рот первую ложку и нахожу, что мое обоняние меня не обмануло.
«Маня, – обращается Александр Александрович, – нельзя ли получить еще ломтик хлеба? Я, по рассеянности, сразу его съел». – «Ни за что, – отвечает Марья Григорьевна. – Ты знаешь свою порцию. Поторопился съесть ее, больше не получишь». Видя растерянный вид Александра Александровича, ты протягиваешь ему свой кусочек. «Не допущу этого безобразия, – говорит Марья Григорьевна. – Если ты, Юлия, будешь вмешиваться в мои распоряжения, я отказываюсь вести дальше хозяйство». Испуганный Иван Григорьевич бросает на тебя умоляющий взгляд, твой кусочек возвращается к тебе. Александр Александрович покорно опускает голову, и все успокаивается.
207
Запись от 19 марта 1950 г. – Тетрадь I. С. 1–3.
208
Двое из братьев Малкиных, Александр и Иосиф, поступили в Московский университет одновременно с Костицыным в 1902 г.: первый – на юридический факультет, второй – на физико-математический; в 1918 г. Александр и младший брат, Самуил, врач, служили во Всероссийской эвакуационной комиссии; в 1920 г. Малкины поменяли свою фамилию на Абарбанель.
209
Речь идет об И. Г. Гринберге – отце Ю. И. Гринберг, будущей жены В. А. Костицына.
210
Имеются в виду дети И. Г. Гринберга: Юлия и ее сестры, старшая Елена и младшая Екатерина, и брат Сергей.
211
Запись от 20 марта 1950 г. – Тетрадь I. С. 4–6.
212
благодарственный визит (фр.).
213
объект для охоты, собственного пользования (фр.).
214
В своем «Curriculum vitae», написанном в марте 1920 г., И. Г. Гринберг сообщал: «По окончании среднего учебного заведения в России я отправился в Германию, где в течение двух лет изучал коммерческие науки. Из Германии я поехал в Лодзь, где в продолжение семи лет работал на мануфактурных фабриках в качестве главного бухгалтера, а потом – коммерческого директора. После семилетней работы в 1883 г. был послан Обществом Лодзинских фабрикантов в качестве их представителя в Москву. Этими представительствами я ведал в течение более 20 лет, причем получил за это время еще представительства английских и германских фабрик по текстильной и металлургической промышленности. Так как мне по делам одной из этих фирм (Акц[ионерного] об[щест]ва И. К. Познанского в Лодзи) приходилось часто ездить в Среднюю Азию (Коканд, Самарканд, Ст[арая] Бухара и др.), то я, приобретя за это время опыт и знания по хлопку, окончательно посвятил себя хлопковому делу. Как раз к этому времени банки начали заниматься товарными операциями, и меня как специалиста-хлопковеда пригласил бывший Сибирский торговый банк. В последнем я работал около 10 лет, стоя во главе всего хлопкового дела с очень крупными оборотами. Ушел я из банка, лишь когда таковой был закрыт. По выбору я был членом Московского хлопкового комитета и Центрохлопка. Владею немецким, французским, польским и отчасти английским языками» (РГАЭ. Ф. 5420. Оп. 17. Д. 762. Л. 13).
215
Запись от 21 марта 1950 г. – Тетрадь I. С. 6–11.
216
Запись от 22 марта 1950 г. – Там же. С. 12–15.
217
Ср. в «Краткой автобиографии (curriculum vitae)» (1914): «Я, Юлия Ивановна Гринберг, родилась 27 октября 1896 г. в Москве. До семилетнего возраста воспитывалась дома. В 1903 г. поступила в 1-й приготовительный класс Елизаветинской женской гимназии. Потерявши по болезни целый учебный год, в 1909 г. перешла по экзамену в 4-й класс гимназии Л. О. Вяземской, которую успешно окончила в 1913 г. По окончании гимназии, т. е. в 1913/14 г., занималась изучением банкового дела и коммерческих наук. В настоящее время, по возвращении из заграничного путешествия, желая получить высшее образование, имею намерение поступить в Московский коммерческий институт» (ЦГА Москвы. Ф. 417. Оп. 10. Д. 1139. Л. 8). Московский коммерческий институт был создан в 1907 г. (с 1919 г. – Московский институт народного хозяйства им. К. Маркса, с 1924 г. – им. Г. В. Плеханова); в числе преподавателей Ю. И. Гринберг были И. Х. Озеров (наука о финансах), П. И. Новгородцев (введение в философию), Б. П. Вышеславцев (история политических учений), С. А. Котляревский (государственное право), А. А. Кизеветтер (русская история), И. А. Ильин (семинарий по общей теории права) и др.
218
Запись от 23 марта 1950 г. – Тетрадь I. С. 16–20.
219
«Les Lettres françaises» (1942–1972) – общественно-политический и литературно-художественный иллюстрированный еженедельник.
220
Запись от 24 марта 1950 г. – Тетрадь I. С. 20–22.
221
К. Гамсун, мечтавший о включении Норвегии в «Великую Германскую империю», симпатизировал нацистам и встречался в Берлине с Гитлером, которому посвятил прочувствованный некролог; писатель поддерживал норвежского «министра-президента» В. Квислинга, организовавшего депортацию евреев в лагеря смерти, и, осуждая движение Сопротивления, до конца войны носил значок Национал-социалистической партии Норвегии.
222
См. рус. переводы романов Л. В. Брууна: Счастливые дни Ван-Цантена / Пер. М. Н. Мейчика. М.; Пг., 1923; Обетованный остров Ван-Цантена / Пер. М. Мейчика. М.; Пг., [1924] и др.
223
Студии Московского художественного театра: 1-я (1912, руководитель – Л. А. Сулержицкий, в 1924–1936 гг. – 2-й МХАТ); 2-я (1916–1924, руководитель – В. Л. Мчеделов); 3-я (1920, руководитель – Е. Б. Вахтангов, с 1926 г. – Театр им. Е. Вахтангова); 4-я (1921, руководитель – Г. С. Бурджалов, в 1927–1937 гг. – Реалистический театр).
224
«Росмерсхольм» (1918, 1-я студия МХТ; режиссер – Е. Б. Вахтангов).
225
Правильно: «Узор из роз» (1920, 2-я студия МХАТ; режиссер – Е. Б. Вахтангов).
226
Правильно: «Король темного чертога» (1918, МХТ; худож. руководитель – В. И. Немирович-Данченко, режиссер – Н. С. Бутова).
227
«Синяя птица» (1921, 2-я студия МХАТ; режиссер – В. Л. Мчеделов).
228
«Горячее сердце» (1926, МХАТ; режиссер – К. С. Станиславский).
229
Правильно: «Король без венца» (1918, «Свободный театр»).
230
Балет «Тщетная предосторожность» (1789; либретто Ж. Доберваля, музыка П. Гертеля) был поставлен в Большом театре в 1891 г., возобновлен в 1922 г. в редакции А. А. Горского.
231
Правильно: балет «Любовь быстра!» (др. названия – «Норвежская идиллия», «Норвежская сказка»); поставлен А. А. Горским на музыку «Симфонических танцев» Э. Грига в оркестровке А. Ф. Арендса в Большом театре (1913), возобновлен на сцене летнего театра сада «Аквариум» (1918).
232
Имеются в виду оперы Н. А. Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане» (1900) и Р. Вагнера «Золото Рейна» (1854).
233
Опера В. А. Моцарта (1782), которая под названием «Похищение из гарема» шла в театре Художественно-просветительного союза рабочих организаций, созданного в 1918 г. Ф. Ф. Комиссаржевским при сотрудничестве В. М. Бебутова.
234
Пьеса И. Д. Сургучева «Осенние скрипки» была поставлена в Московском художественном театре в 1915 г., шла она там и в 1918 г.
235
Спектакль «Сверчок на печи» (по Ч. Диккенсу) был поставлен Б. М. Сушкевичем в 1-й студии МХТ в 1914 г.
236
Оперетта «Дочь мадам Анго» (1872) на музыку Ш. Лекока была поставлена В. И. Немировичем-Данченко в Музыкальной студии МХАТ в 1920 г. (режиссер – В. В. Лужский).
237
Оперетта «Жирофле-Жирофля» (1874) на музыку Ш. Лекока была поставлена А. Я. Таировым в Камерном театре в 1922 г.
238
Правильно: «В старом Гейдельберге» – комедия по пьесе, написанной в 1902 г. немецким драматургом В. Мейер-Ферстером; премьера в Малом театре в постановке режиссера А. М. Кондратьева состоялась в 1904 г.
239
Запись от 25 марта 1950 г. – Тетрадь I. С. 22–29.
240
Коммерческие игры – карточные игры, основанные на расчете (вист, преферанс, покер и др.), в отличие от азартных, в которых выигрыш – дело случая.
241
Согласно «описи владения» по состоянию на 9 июня 1914 г., семья домовладельца, каковым значилась Г. С. Гринберг, занимала квартиру № 3/4 (на втором этаже) площадью 77,2 кв. сажени (351,2 кв. м), имевшую 17 окон и состоявшую из 9 комнат (плюс 2 комнаты для прислуги), кухни и 2 ванных (см.: ЦГА Москвы. Ф. 179. Оп. 63. Д. 6737. Л. 1).
242
Запись от 26 марта 1950 г. – Тетрадь I. С. 29–35.
243
Английская набережная, ставшая символом Ниццы.
244
Экссудат – жидкость, накапливающаяся в тканях или полостях при воспалении.
245
неприятные обязанности (фр.).
246
Балет П. И. Чайковского «Щелкунчик» по мотивам сказки Э. Гофмана «Щелкунчик и мышиный король» был поставлен А. А. Горским в Большом театре в 1919 г.
247
Запись от 27 марта 1950 г. – Тетрадь I. С. 36–41.
248
Имеется в виду Пролетарский университет в Москве (1918–1920), открытый Пролеткультом для подготовки кадров «рабочих вождей» с помощью новых форм обучения, основанных в первую очередь на равноправии преподавателей и слушателей.
249
Запись от 28 марта 1950 г. – Тетрадь I. С. 41–43.
250
Имеется в виду Министерство народного просвещения.
251
Работая астрофизиком Ташкентской обсерватории, В. В. Стратонов опубликовал по-русски несколько своих работ: «О строении вселенной» (Ташкент, 1901), «Наблюдения переменных звезд» (Ташкент, 1904), «Фотографические наблюдения планеты Эроса» (Ташкент, 1904).
252
Ошибка. С лета 1905 г. В. В. Стратонов служил в Тифлисе помощником начальника канцелярии главноначальствующего по военно-народному управлению и чиновником для особых поручений при императорском наместнике на Кавказе, редактировал «Кавказский календарь» (на 1908 г. и 1909 г.) и официальную газету «Кавказ» (1910–1911).
253
Неясно, какие издания Костицын имеет в виду.
254
Стратонов В. В. Солнце: Астрономическая популярная монография. [Тифлис], 1910.
255
Неточность: в 1912–1917 гг. В. В. Стратонов служил контролером отделений Госбанка в Орле, Муроме и Твери, управляющим отделением в Ржеве.
256
См.: Космография: (Начала астрономии): Учебник для средних учебных заведений и руководство для самообразования. М., 1914 (переиздание – 1915). Стратонов также выпустил в эти годы популярную брошюру: Здание мира: Астрономический очерк. Пг., 1916.
257
Учитывая оппозицию члена коллегии научного отдела Наркомата просвещения РСФСР В. Т. Тер-Оганезова плану организации Главной астрофизической обсерватории, В. В. Стратонов решил, по его словам, «вовлечь в это дело Костицына», ибо он «как бывший большевик имел еще хорошие связи в коммунистических кругах». После спора с Тер-Оганезовым на заседании Государственного ученого совета 25 марта 1921 г. Костицын был включен в оргкомитет по реализации проекта; впоследствии, как признавался Стратонов, ему не раз приходилось «пускать в ход Костицына и все его влияние и связи» для спасения обсерватории от закрытия (Стратонов В. В. По волнам жизни // ГАРФ. Ф. Р – 5881. Оп. 2. Д. 669. Л. 241).
258
Запись от 29 марта 1950 г. – Тетрадь I. С. 44–51.
259
Запись от 30 марта 1950 г. – Там же. С. 52–57.
260
исключительный человек (фр.).
261
Профессор П. Н. Лебедев подал в отставку в знак протеста против действий министра народного просвещения Л. А. Кассо, который в январе 1911 г. выпустил ряд циркуляров («О надзоре за учащимися высших учебных заведений», «О временном недопущении публичных и частных студенческих заведений» и др.), направленных на ликвидацию университетской автономии; это вызвало отставку ректора А. А. Мануйлова, а вслед за ним – еще 130 преподавателей, в том числе двух десятков профессоров.
262
Неточность: имеется в виду статья «Наука и свобода» (Русские ведомости. 1917. № 4. 24 февр.), в которой К. А. Тимирязев заявлял, что «единственным вершителем судеб института оказался П. П. Лазарев», причем «новый институт оказался закрытым для учеников Лебедева, т. е. была уничтожена основная мысль его инициаторов – вместо убежища для многих, потерпевших от погрома, он оказался достоянием одного».
263
По свидетельству В. В. Стратонова, «шутники говорили, что П. П. Лазарев занимает 60 должностей, о которых он помнит, и еще 200 таких, о которых он не вспоминает до времени, пока ему не приносят по ним содержание». Будучи «крайне честолюбивым», Лазарев «мастерски пускал в глаза пыль», не всегда даже скрывая свое ироническое отношение к большевикам. Как-то, вспоминал Стратонов, он поинтересовался у него, для чего предназначен лежащий во дворе института «кусок очень толстого океанского кабеля», на что «круглое лицо Лазарева расплылось, сквозь очки, в хитрую усмешку: “Для втирания очков советской власти!” Этим делом он с успехом занимался, показывая свой физический институт знатным посетителям» (Стратонов В. В. По волнам жизни. Л. 241).
264
Запись от 31 марта 1950 г. – Тетрадь I. С. 59–65.
265
английским тортом (фр.).
266
чаепитие, легкое угощение (фр.).
267
Запись от 2 апреля 1950 г. – Тетрадь I. С. 74–87.
268
Имеется в виду книжный магазин, ранее принадлежавший издательству «Товарищество М. О. Вольфа», ныне – «Книжная лавка писателей» (Кузнецкий мост, д. 18/7).
269
Белые цветки померанцевого дерева – принадлежность свадебного убора невесты, олицетворяющие ее чистоту и непорочность.
270
Имеется в виду Мирза Мухитдин Мансуров – деловой партнер И. Г. Гринберга и крупнейший бухарский купец-миллионер. Избранный в 1917 г. председателем ЦК младобухарцев, он, спасаясь от преследований эмира Сеид Алим-хана, скрывался в 1918 г. в Новой Бухаре и Ташкенте, откуда ЦК бухарских коммунистов отправил его в Москву для переговоров о «формировании Красной Бухарской бригады и снабжении ее оружием, обмундированием и инструкторским персоналом». В столице Мансуров добился возмещения стоимости реквизированного у него большевиками в России хлопка и каракуля, пообещав организовать революцию в Бухаре, после чего, по утверждению недоброжелателя, «через Гринберга закупил шведские кроны, передав их на хранение Гринбергу и другим через Гринберга (часть пропала), жил скромно и скупо, время от времени осуществлял какую-нибудь спекулятивную операцию через сына Мирза Амина» (РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 86. Д. 113. Л. 19). После насильственной советизации ханства в сентябре 1920 г. Мансуров состоял назиром (наркомом) торговли и промышленности Бухарской народной советской республики и в качестве председателя ее делегации приезжал в Москву, где 4 марта 1921 г. подписал Союзный договор с РСФСР (подробнее см.: Генис В. Л. Вице-консул Введенский: Служба в Персии и Бухарское ханство (1906–1920 гг.). М., 2003).
271
Запись от 3 апреля 1950 г. – Тетрадь I. С. 87–93.
272
Московский городской народный университет им. А. Л. Шанявского, открывшийся в 1908 г. на средства мецената-золотопромышленника и названный его именем, с 1912 г. размещался в специально построенном для него здании на Миусской площади.
273
В «Обозрении преподавания по физико-математическому факультету Объединенного Московского университета» в осеннем семестре 1919 г. по математике значатся профессора С. С. Бюшгенс, С. П. Виноградов, А. К. Власов, А. А. Дмитровский, Д. Ф. Егоров, И. И. Жегалкин, Л. К. Лахтин, Н. Н. Лузин, Б. К. Млодзеевский, П. А. Некрасов, А. П. Поляков, С. П. Фиников, И. И. Чистяков, В. П. Шереметевский и преподаватели Н. А. Глаголев, В. А. Костицын (три лекции по теме: «Разложение в ряды потенциальных функций»), В. В. Степанов, В. С. Федоров (ЦГА Москвы. Ф. Р – 1609. Оп. 1. Д. 220. Л. 1).
274
См.: Лоренц Г. А. Элементы высшей математики: Основания аналитической геометрии, дифференциального и интегрального исчислений и их приложений к естествознанию / Пер. с доп., изм. и историческим очерком развития математического анализа В. П. Шереметевского. М., 1898–1901. Т. 1–2.
275
Лоренц Г. А. Элементы высшей математики: Основания аналитической геометрии, дифференциального и интегрального исчислений и их приложений к естествознанию / Изд. вновь просм. и доп. О. В. Шереметевской, под ред. проф. В. А. Костицына. М.; Л., 1926.
276
Запись от 4 апреля 1950 г. – Тетрадь I. С. 93–100.