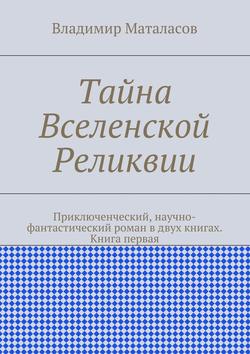Читать книгу Тайна Вселенской Реликвии. Книга первая - Владимир Маталасов - Страница 7
Часть первая. Мыслью унесённые в мечту
Глава вторая. Будни житейские
Оглавление1. Остапенко.
– Ты уходишь, Саня?
– Да, папа. Степан Палыч просил зайти сегодня к нему, всем троим.
– Что? Опять что-то набедокурили?
– Скажешь тоже! – запротестовал сын натуженным голосом, зашнуровывая очередной ботинок. – Просто велел, чтобы зашли, а зачем – сами не знаем.
Минуту спустя входная дверь захлопнулась. По одну сторону куда-то торопился по своим делам сын, а по другую – оставался отец, сам с собой наедине, в пустой квартире. Начинало смеркаться. Богдан Юрьевич безотчётно бродил по комнате, заложив руки за спину. Остановившись возле окна, он посмотрел поверх крыш домов. Небосклон был растревожен подвижным хитросплетением полуголых веток тополей. В этом году осень выдалась холодной, ветреной и дождливой. Сентябрь месяц стоял на исходе.
Вот прошёл трамвай. Свет дуговой искры, пробившись сквозь оконные ручейки дождя, на мгновение нарушил сумеречный покой комнаты. Богдан Юрьевич уселся в глубокое кресло напротив окна. Мерное постукивание дождя о карниз подоконника навевало приятную истому, располагая к воспоминаниям и будоража мысли…
Родом из далёкого закарпатского городка Севлюш, он так и остался после службы в армии в Крутогорске, где отбывал воинскую повинность. Здесь же поступил в политехнический институт, окончив его с отличием, и в том же году женился на своей кудрявой, беловолосой хохотушке Ольге, с которой познакомился годом раньше.
Тогда она вернулась из очередной, пятой по счёту после окончания университета, археологической экспедиции. Впервые увидел он её в центральной библиотеке, находясь на преддипломной практике. Ольга сидела в читальном зале за длинным столом, обложившись со всех сторон высокими стопками книг и углубившись в какие-то записи и расчеты. Богдан невольно залюбовался белоснежными локонами её волос, упрямо спадавшими на высокий лоб тёмно-коричневого от загара лица.
Засиделись они до самого звонка, оповещавшего о закрытии библиотеки. Помнится, как Ольга поспешно поднялась со своего места и, стопка за стопкой, стала переносить книги, раскладывая их по полкам в алфавитном порядке. Она торопилась, так как явно не успевала к закрытию. Перетаскивая последнюю, высокую стопку книг, она нечаянно споткнулась о край ковровой дорожки и рухнула на пол вместе с ношей. Стопка книг прямой линией распростёрлась от неё до самых стеллажей. Поднявшись с пола, она огляделась по сторонам, не то молча призывая кого-то на помощь, не то стыдясь своего падения. Так и стояла она с обескураженным видом, пока не заметила Богдана, спешившего ей на помощь, а потом заливисто расхохоталась.
– Ну надо же! – смеясь и щурясь от боли в ушибленной коленке, произнесла она мягким, бархатным голосом. – Только со мной может такое случиться. Если вас не затруднит, помогите мне собрать книги.
Потом Богдан предложил Ольге проводить её домой. Она согласилась. Слегка прихрамывая, держась ему под руку, она беспрестанно говорила, перемежая речь тихими ойканьем и смехом, когда давала себя знать ушибленная коленка.
Из её разговора он понял, что спутница совсем недавно возвратилась из шестимесячной, археологической экспедиции, организованной Украинской Академией Наук. И велико же было его изумление, когда он узнал, что раскопки производились в его родных местах, близ села Королево, недалеко от Севлюша. Оказалось, что она не только хорошо осведомлена о культуре, быте и нравах населения этого края, но так же неплохо овладела украинским языком с местным диалектом и, к тому же, ещё, успела немного освоить венгерский язык, хотя сама говорила на нём ещё слабо. Всему этому способствовали не только способность к восприятию языков и профиль работы, заранее предопределяющий необходимость непосредственного контакта с местным населением, но и его уникальный, многонациональный состав, уклад образа жизни общества края, включающего в себя украинцев, венгров, чехов и словаков, румын, русских, евреев, и так далее.
К тому же выяснилось, что у них, и не только в Севлюше, есть несколько общих знакомых. Богдан был, как говорится, «на седьмом небе».
Так они познакомились, подружились и полюбили друг друга, а спустя год сыграли свадьбу, сразу же после окончания Богданом института.
Поначалу он жил в заводском общежитии, не поддаваясь на увещевания Пелагеи Никифоровны, Олиной мамы, перебраться к ним на квартиру, так как Оля через два месяца после свадьбы вновь уехала в составе археологической экспедиции, теперь уже в Иран, раз в полгода ненадолго навещая мужа с матерью, и то – проездом, в Москву, где она сдавала свои отчёты о проделанной работе. И так продолжалось в течение трёх лет, пока у них не родился ребёнок.
Три года они неразлучно пробыли все вместе: счастливое, золотое было время. Перед самым рождением Сани молодая семья Остапенко успела обзавестись собственной квартирой в самом центре города, и теперь уж Пелагея Никифоровна стала частым гостем своей дочери, помогая по ведению домашнего хозяйства и в воспитании внука. Эти обязанности сами собой так за ней в дальнейшем и закрепились после того, как Ольга вновь вернулась к своей работе, а Богдан был назначен главным конструктором завода. Год спустя он стал его директором.
Откинувшись на спинку кресла, подперши голову полусогнутыми пальцами руки, Богдан, словно в полудрёме, непроизвольно, в хронологическом порядке, отслеживал свой жизненный путь, пока память его не уткнулась в какую-то чёрную, непреодолимую преграду, вмиг разделившую его жизнь на прошлое и настоящее, и не отпускающую в будущее. Преградой же этой было чувство вины перед людьми и своей совестью, сжимавшее тугой болью сердце, обволакивая его холодной пеленой сопричастности к случившемуся.
Произошло это в июле месяце 1976 года. Шли испытания компактного, сверхмощного, авиационного двигателя нового поколения. Шли успешно, на всех режимах, развивая мощность на обычном виде топлива до пятнадцати тысяч лошадиных сил, что равноценно одиннадцати тысячам киловатт. В плановом порядке предусматривались испытания того же двигателя на новейшем виде топлива, разработанном в заводской научно-исследовательской лаборатории её ведущим специалистом Галиной Фёдоровной Ремез. Применение этого вида топлива позволяло почти что вдвое увеличить мощность двигателя.
В последний день контрольных испытаний, перед самой госприёмкой, случилось несчастье. Пройдя отметку в двадцать восемь тысяч лошадиных сил, двигатель стал самопроизвольно наращивать мощность и, превысив её ещё на пятнадцать процентов, взорвался. Погибла Ремез и получили ожоги различной степени ещё несколько человек из числа сотрудников лаборатории и обслуживающего персонала.
Анализ проб топлива, взятых с места трагедии, показал завышенное число высоко энергосодержащих компонентов, а со склада лаборатории – норму.
Заключение акта госкомиссии гласило, что причиной взрыва послужили недосмотр и халатность при хранении, транспортировке и заливке горючего в энергопитающие системы со стороны самого же создателя топлива – Ремез Галины Фёдоровны, с чем Остапенко согласиться никак не мог. Он пытался возражать. Но ему прозрачно намекнули, что в противном случае его самого ожидают очень и очень неприятные последствия. В министерстве, один из его сотрудников, давний знакомый Богдана, недвусмысленно дал ему понять, что подобной трактовкой заключения акт обязан заместителю директора завода Шишкину Вениамину Бенедиктовичу, который, кажется, не прочь бы был занять директорское кресло. Богдану не хотелось верить в это: ему он доверял во всём, как самому себе. За всё время совместной работы у них не возникло ни одного крупного разногласия, ни одного серьёзного инцидента, были исключены элементы взаимного непонимания, в чём, как полагал Остапенко, была заслуга Шишкина, обладавшего способностью принимать компромиссные решения. Шишкина он высоко ценил как специалиста и организатора производства. Да нет, быть того не может!
Однако, в дальнейшем, жизнь подтвердила справедливость высказанных опасений. Богдану вспомнилась тогда притча, когда-то рассказанная ему отцом…
Как-то раз, один художник, взялся писать картину с ликами Святых. Всё шло у него хорошо, пока очередь не дошла до образа Иуды. Сколько он не бился над ним, всё было напрасно. Тогда художник решил отыскать натурщика. Долго он искал человека с обличьем Иуды. И вот, почти отчаявшись, он случайно, напоследок, забрёл в один грязный, пьяный притон на окраине города и… нашёл то, что искал.
Художник пригласил этого человека к себе, и тот, за хорошее вознаграждение, согласился ему позировать. Но вот художник приметил, что человек этот как-то пристально, с интересом разглядывает его.
– Что это вы на меня так смотрите? – спросил он.
– А вы меня не узнаёте? – задал тот встречный вопрос с какой-то сатанинской улыбкой на лице.
– Нет, не узнаю, – ответил художник, не в силах вспомнить, как бы не напрягал память.
– А вы повнимательней вглядитесь в меня. Что: не узнаёте?.. А ведь мы с вами уже встречались.
Как не приглядывался художник, как не вспоминал, но – увы, припомнить этого человека так и не смог.
– Так кто же вы, чёрт подери? – снедаемый любопытством, воскликнул художник.
Бродяга, сверкнув недоброй, зловещей улыбкой на испитом, дряблом лице, ответил:
– Ну хорошо, я вам напомню. Пять лет тому назад вы так же, как и в этот раз, приглашали меня к себе, чтобы написать с меня образ Иисуса Христа!..
Не желая идти на сделку со своей совестью, повинуясь внутреннему протесту против несправедливости, подлости и лжи, Остапенко подал заявление об увольнении с завода. Прошение было отклонено, а его самого перевели на должность заместителя начальника цеха вспомогательного производства. Директором завода был назначен Шишкин.
– Богданчик, Богданчик! – ободряюще улыбаясь, но с некоторым сожалением в голосе, сказала ему тогда Ольга, возвратившаяся к этому времени из командировки. – Ну кому ты собирался что-либо доказать своей отставкой? В этом – весь ты, похожий на человека, объявившего голодовку в знак протеста против того, что Земля вертится не в ту сторону. Вот чудак!.. А в общем-то скажу тебе так: никогда не сожалей о чём-либо уже содеянном. Значит так надо: судьба. А насчёт всех этих козней, так ведь это во все времена и эпохи: была бы жертва, палач найдётся. Ты лучше вот что… Бери-ка отпуск, да поезжай вместе с Саней к себе на родину, в Севлюш. Развейся, отдохни немного, и поймёшь, как всё же жизнь хороша и мир прекрасен…
С той поры прошло девять лет, исподволь, незаметно. Но тень горьких воспоминаний так по сей день и заслонила собой окружающую действительность, увлекая его своими невидимыми нитями в далёкое прошлое…
– Что-то Сани нет долго, – забеспокоился Богдан Юрьевич, выходя из состояния полузабытья и посматривая на часы сквозь ход преломлённых, колышущихся лучей уличного освещения. – Засиделись, наверное, у Степана Павловича.
Ему нравилось окружение сына – и его друзья, и их родители, да и директор школы, с которым был немного знаком. Вот только с успеваемостью у них что-то не всё в порядке, да ещё какие-то странные перезванивания по ночам.
– Надо бы серьёзно поговорить с сыном, – подумал Остапенко, и поднялся с кресла.
2. Точность – один из элементов культуры.
– Вот о чём бы мне хотелось поговорить с вами, друзья мои, – начал Степан Павлович, когда ребята, раздевшись, прошли в ярко освещённую комнату, обклеенную красивыми, цветными обоями приглушённых тонов и оттенков. – Усаживайтесь поудобней. Так вот, во-первых. Что это у вас там с Шишкиным произошло? Звонили из районо, просили разобраться: сказали, что по вашей вине его кто-то крепко поколотил. Это правда?
– Ему бы не так ещё надо, – возмутился Кузя и подробно поведал о ночном происшествии.
– Та-ак! – облегчённо вздохнул Ремез, постукивая кончиками пальцев по столу. – Тогда это, конечно, в корне меняет суть дела. Но и вы-то тоже хороши. Кто же в вашем возрасте шляется в такое позднее время по пустынным улицам? Ну уж раз так случилось, вины вашей в том нет. Только в следующий раз будьте осмотрительней и по ночам не разгуливайте: всякое может случиться.
– Так из-за этого наука что ли должна страдать? – запальчиво вымолвил Кузя.
– Это ты о чём?
– Как о чём? Да ведь мы же с Саней в этот вечер разрабатывали ход эксперимента по мысленному внушению.
– Вот как? – Степан Павлович с нескрываемым интересом посмотрел на своих учеников, довольно поглаживая усы. – Интересно, интересно! И что?, получилось, как задумали?
– Ещё бы не получилось! – как-то торжественно произнёс Саня и даже засопел от удовольствия.
– Ну-ну! Может и меня введёте в курс ваших проблем? Разумеется, если это, конечно, не секрет.
– Да что вы, Степан Павлович! – запротестовал Саня. – Какие у нас могут быть от вас секреты? – и он подробно изложил ход состоявшегося эксперимента с его результатами.
Степан Павлович внимательно слушал.
– Я почему-то был уверен, что вы добьетесь своего, – немного помолчав, промолвил он после завершения рассказа. – Только вот одного лишь в толк не возьму: как это вы умудрились в качестве подопытного использовать Екатерину Николаевну.
– Так мы же вам говорили по какой причине, – попытался напомнить ему Саня.
– Всё так. С точки зрения проведения эксперимента это понятно, а с точки зрения элементарной этики человеческих взаимоотношений не вписывается ни в какие рамки, – возразил Ремез, исподлобья поглядывая на друзей и пытаясь скрыть улыбку. – Вам необходимо обязательно рассказать ей обо всём и извиниться… А то, что Екатерина Николаевна даже и не вспомнила обо всём пережитом ей в гипнозе, ещё не говорит о том, что всё прошло для неё бесследно. Человеческий разум – это «Его Королевское Высочество», подсознание же – «серый Кардинал». Надо полагать, что всё ей внушённое ушло в область подсознания, и может, когда-нибудь, само собой выплывет наружу, ну, скажем например, в виде естественного сна.
– Да, – спохватился вдруг учитель, поняв, что слишком увлёкся. – Теперь о самом главном, для чего я вас позвал. Довелось мне недавно просматривать классный журнал 7-го «А» класса: плохи ваши дела братцы, плохи. Успеваемость у всех троих самая низкая. Правда, о Шишкине я не говорю: это предмет особого разговора. Но вам-то, молодцы-удальцы, не гоже ходить в двоечниках, да троечниках.
Друзья сидели с понурыми головами, виновато потупив глаза в пол и исподлобья поглядывая друг на друга. Им было как-то неловко и очень стыдно.
– В способностях ваших сомневаться не приходится, и поэтому я уверен, что всё это – временное явление, – продолжал Ремез. – Похвально, конечно, что у каждого из вас есть любимое увлечение. Знаю, например, что вот ты, Саня, и ты, Кузьма, увлекаетесь электроникой, а Митя – строит прекрасные авиамодели.
Степан Павлович искоса посмотрел на своих учеников, которые с удивлением переглянулись, а затем уставились на него.
– А откуда вам всё это известно? – полюбопытствовал Митя.
– Откуда? Разведка донесла! – смеясь, ответил Ремез и, уже серьёзно, продолжил: – Но подумайте сами. В своих увлечениях вы идёте по уже проторённому пути: собираете кем-то уже давно придуманные электронные схемы, модели летательных аппаратов, и прочее. Иными словами, вы действуете по шаблону. А как я полагаю, каждый из вас, может быть, и в недалёком будущем, хотел бы создать нечто необыкновенное, фантастическое и, притом, чрезвычайно полезное для всего человечества, то есть – сказать своё веское слово в избранной вами профессии. Правильно я говорю, или что-то не так?
– Почему же? Всё правильно! – ответил за всех Саня.
– А для этого, как вы сами понимаете, необходимы в первую очередь знания. – Степан Павлович продолжал тихо барабанить по столу пальцами, стараясь подобрать нужные слова. – Вот взять бы хотя ваш последний эксперимент. Хорошо, установили, как полагаете вы, с полной достоверностью факт существования интересующего вас явления. Положим! Дальше что?
– Вот и мы так думаем, – поддержал Кузя учителя.
– Какой вид энергии переносит информацию, каким образом это происходит, какую пользу можно извлечь из всего этого для людей? Вот видите, сколько сразу возникает вопросов. А для того, чтобы разобраться и ответить на них, нужно очень многое знать и много уметь. – Степан Павлович посмотрел на своих гостей, лица которых выражали не то угрюмость, не то – разочарование. – А впрочем, наверное и других идей у каждого из вас предостаточно?
– У-у-у, хоть отбавляй, не знаешь за какую взяться, – оживились ребята.
– Вот, вот, я и говорю. Давайте договоримся так. – Степан Павлович слегка прихлопнул ладонью по столу, как бы в заключение ставя точку над «i». – Начиная с завтрашнего дня, вы – все трое, серьёзно берётесь за учёбу. Все ваши увлечения, пока, на время, в сторону. Седьмой класс вы должны окончить только на «хорошо» и «отлично». Договорились?
Друзья понимали справедливость слов и убедительность доводов учителя, но уж больно влекла их романтика чего-то таинственного, ещё – непознанного и неведомого человечеству.
– Отчего же не согласны? Мы не против, – как-то неуверенно отозвался Митя, – и даже согласны…
– Ах, вот как: и даже – согласны, – не дослушав, засмеялся учитель. – Молодцы-ы, ничего не скажешь. Ну и…
– Да мы сами понимаем, Степан Павлович, что без знаний далеко не уедешь. – Жестом руки Саня прочертил в воздухе крест. – Только вот в голову много всякого такого приходит…
– Да-а-а, с вами не соскучишься, – улыбаясь, вымолвил Ремез. – В таком случае могу вам посоветовать обзавестись каким-нибудь толстенным журналом – назовите его, к примеру, «Банк идей», или ещё что-то в этом духе, – и все пришедшие вам на ум идеи, гипотезы, предположения, конструкции, вплоть до самых безумных – не бойтесь этого слова, – заносите в него, чтобы не позабыть. А когда придёт своё время, и вы наберётесь знаний и опыта, вот уже тогда и занимайтесь себе на здоровье реализацией своих задумок. И ещё: начав одно дело, всегда доводите его до конца, потом беритесь за другое. Взялись вы за изучение телепатического феномена, доведите его до логического конца. Но, всему своё время! В первую очередь – учёба, и только – учёба! Ну что, по рукам?
– По рукам! – дружным хором отозвались ребята. – Мы подтянемся, Степан Павлович, обязательно, по всем предметам. Обещаем!
– Точно?
– Точно!
– Ну смотрите же мне. Точность – один из элементов культуры. Вот и договорились!
В это время в прихожей прозвучал звонок. Степан Павлович направился открывать входную дверь. Из глубины коридора донеслись оживлённые девичьи голоса.
– Кто это у нас, папа? – негромко спросила какая-то девочка, увидев, наверное, на вешалке чужую одежду.
– А вы проходите, сами и увидите, – шутливо отозвался Ремез.
В комнату нерешительно вошли две девочки и в крайнем смущении остановились на её пороге.
– Ну что же вы стоите? Знакомьтесь!
Обе стороны смешно топтались на месте, не зная, кому начать первым. Решив разрядить «накалённую» обстановку, первым нарушил неловкое молчание сам хозяин дома.
– Это, девочки, мои ученики: Саня, Кузьма и Митя, – представил он поочерёдно своих гостей.
– Очень приятно! – произнесла девочка с коротко подстриженными волосами и чёлкой на лбу.
– Слова эти принадлежат моей дочке Тане, – пояснил Степан Павлович. – А это, – указал он на девочку с длинной, толстой косой, – её лучшая подружка, Настенька Лопухина.
– Нам тоже очень приятно, – каким-то неестественным голосом поспешил уведомить Саня всех собравшихся.
И вновь воцарилось неловкое молчание.
– Ну и гостеприимство! Танюша, Настенька, а ну живо собирать на стол, да потчевать гостей, – обратился он к вновь прибывшим, скрывая усмешку в добрых глазах.
Стараясь показаться не особо-то назойливыми и навязчивыми, друзья деликатно отказались от приглашения.
– Спасибо, Степан Павлович, не стоит беспокоиться, – произнёс Кузя. – Поздно уже. Нас дома, наверное, давно уже заждались.
– Ну что ж, вам виднее. Не смею больше задерживать, – не стал настаивать Ремез. – Знать разговор наш впрок вам пошёл. Только, чур, не забывать про наш уговор…
– Где-то я уже видел эту.., ну как её?., ну, дочку Степана Павловича, – уже шагая по улице, сообщил Кузя.
– Таню, что ли? – уточнил Саня.
– Ага, Таню.
– И я видел её. Она недавно в школу к нам приходила, видать – к Степану Павловичу. – Саня глянул в Кузину сторону и, если бы было светло, то непременно бы заметил, как тот покраснел. – Ничего себе, красивая… И Настя тоже – ничего себе, – продолжил он, покраснев сам.
– А-а-а, – махнув рукой, раздосадовано протянул молчавший до сих пор Митька. – Страх, как не люблю этих девчонок.
3. Кузина исповедь.
Солнце только-только показало свой ярко переливающийся рубиновыми сполохами головной убор, когда Кузя проснулся от лёгкого прикосновения чьей-то руки. Он открыл глаза. Рядом, на краешке кровати, сидела мать и смотрела на сына.
– Мама? Ты чего?! – потягиваясь и стряхивая с себя пелену сна, спросил он. – Сколько сейчас времени?
– Да рано ещё, сынок, рано, – последовал тихий ответ. – Спи, спи ещё. Сегодня воскресенье, можно и поспать подольше.
Но Кузе почему-то спать расхотелось. Заметив на лице матери еле уловимую тревогу, он спросил:
– А ты чего так рано встала?
– Да что-то не спится, Кузечка. Проснулась ещё затемно, да так и брожу по квартире, словно приведение, – посетовала она. – Послушай: а где твои очки?
– Как где? – в недоумении спросил Кузя.
Он пошарил рукой под кроватью, извлекая из-под неё сначала книгу, а затем – очки.
– Вот они. А что?
– Да так, – пожала она плечами. – Сон мне какой-то нынче странный приснился, как наяву.
У Кузи что-то ёкнуло внутри: вот они слова Степана Павловича про «серого Кардинала». Сна будто и не было в помине.
– Сон? – оживлённо переспросил Кузя. – Какой сон, мам, расскажи, пожалуйста.
– Конечно же расскажу, – улыбнулась Екатерина Николаевна. – Только тебе сначала надо прибраться и умыться. За завтраком обо всём и поведаю, как на духу. Я уже и блинчиков успела тебе напечь.
Быстренько закончив с формальностями предварительных процедур, снедаемый любопытством и запахом блинчиков, доносившимся из кухни, Кузя поспешил к столу. Уминая за обе щёки блинчики, намазанные клубничным вареньем и свёрнутые в трубочку, блинчики, которые такими вкусными, пахнущими чем-то далёким, тёплым, умела готовить только его мама, Кузя с нетерпением ждал её повествования.
Приметив нетерпение сына, Екатерина Николаевна, присела к столу и передала содержание своего сновидения. Всё совпадало, точь-в-точь. Ну это надо же?! Да-а, великое дело – Подсознание.
– Странный сон, не правда ли, Кузя? – спросила она его с улыбкой на устах. – Надо посмотреть по «Соннику», к чему бы это.
Следуя наказу Степана Павловича, он размышлял, как бы начать свою исповедь-покаяние.
– Ничего, мама, не надо смотреть, – вымолвил Кузя. – Я знаю, почему тебе этот сон приснился.
Екатерина Николаевна в недоумении вскинула на него свои брови.
– Ты что, Кузя, провидец или прорицатель какой? – спросила она его, изумлённо прищурив глаза. – Это с каких таких ещё пор?
– А ты не будешь меня ругать?
– Боже мой? Да за что же тебя ругать-то?
– Нет! Дай честное слово, что не будешь! Поклянись!
– Ах, Кузя, Кузя, – вздохнув, вымолвила она, – вечно ты что-то придумаешь. Ну ладно, будь по твоему: не буду, и чтоб мне вот на этом самом месте сквозь землю провалиться. Что у тебя ещё там, а-ну, выкладывай?
– Тогда слушай, – таинственным голосом произнёс Кузя и рассказал ей обо всём по порядку, ничего не утаивая.
Во время Кузиной исповеди Екатерина Николаевна сидела не шелохнувшись, с широко открытыми, удивлёнными глазами, и слушала его с ошеломлённым выражением лица, которое то бледнело, то вдруг заливалось краской. По всему внешнему, напряжённому виду и облику матери, по тому, как едва уловимо вздрагивала родинка над правым уголком её губ, он понял, что она испытывает сильное душевное волнение.
– Кузя-у-узя!.. Убил!.. – наконец-то выйдя из шокового состояния, испуганно вымолвила она. – Ну просто взял и зарезал без ножа! В каком же виде ты меня представил перед своим товарищем?
Она невольно пригладила свои волосы руками, слегка подбив их на затылке. Кузе было и невдомёк, что его мама, как и любая женщина, следящая за своей внешностью и стремящаяся не потерять своей привлекательности и обаяния, очевидно, очень опасалась за потерю, пусть даже и на короткое время, этих своих достоинств, тем более перед посторонним человеком, пребывая в каком-то нелепом, отвратительном состоянии.
– Мам!.. – воскликнул Кузя, восприняв её реакцию по-своему. – Но ты же обещала!..
– Да я не о том, Кузя! – остывая и артистически переходя на полушутливый тон, сказала она. – Я просто подумала о том, в какое неловкое положение ты меня поставил. Как же я, наверное, нелепо выглядела перед Саней тогда. Представляю себе!
– Да нормально ты выглядела, мам, – обиженно произнёс Кузя. – Только, как сказал Саня, немного побледнела и… даже ещё красивее стала, – тут же слукавил он.
– Спасибо за комплимент, успокоил.
– И тебе спасибо за блинчики. – Расправившись с завтраком, Кузя вышел из-за стола, подошёл к матери и поцеловал её.
– Ах! Да ты ещё и передразнивать меня решился, негодник ты этакий? – воскликнула она, вставая и грозно подбочениваясь. – Да я тебя… Ну погоди же!
Выпятив грудь вперёд, мать стала смешно надвигаться на сына. Приняв её игру, он с деланным испугом бросился от неё прочь в комнату, она – за ним. Бегая друг за другом вокруг гостиного стола, Екатерина Николаевна, улучив момент, ухватила Кузю за край развевавшейся рубашки, и тот плюхнулся на диван.
– Ага, попался? – стоя над сыном в угрожающей позе и едва сдерживая смех, изрекла она. – Зачем на базаре кусался?
– Да не кусался я, не кусался! – громко рассмеялся и взахлёб простонал Кузя, обороняясь руками от наседавшего «противника». – Всё, сдаюсь! Больше не буду!
– То-то же! Только тише пожалуйста, Кузя, тише, – заговорщически прошептала Екатерина Николаевна, прикладывая к губам палец. – Мы с тобой этак всех соседей перебудим. Чего доброго – в милицию заберут, хлопот не оберёшься…
– Здравствуйте, тётя Катя! К вам можно? – спросил Саня отворившую им дверь Екатерину Николаевну.
– Здрасьте-здрасьте, залётные, – отвечала она им в тон с шутливой иронией, пропуская в прихожую. – Проходите. Только поясните сначала: вы, собственно, по мою душу, или же к Кузе?
Ребята, остановившись возле вешалки, в нерешительности топтались на месте, будучи не в силах приступить к оправдательной речи.
– Да в общем-то, мы, собственно, к вам, тёть Кать, – шмыгнув носом и глядя себе под ноги, вымолвил Саня.
– Стоп, мальчики! – тут же прервала она начало Саниного душеизлияния. – Если вы пришли ко мне на исповедь, то знайте, что грехи ваши я давно уже вам отпустила и больше на вас не сержусь!
– Правда?.. Ну, спасибо вам, тёть Кать! – уже раздеваясь, весело выпалил Саня, а Митя добавил: «И ещё раз: извините нас пожалуйста!»
– Да будет вам, – отмахнулась хозяйка. – Кузя! – позвала она сына. – Ты что, не слышишь? К тебе же ведь друзья пришли.
4. СОМы и Каливаш.
Прозвучал звонок, оповещая об окончании переменки. Ученики с шумом и гамом рассаживались по своим местам. В класс уверенной походкой вошёл молоденький учитель химии Сергей Петрович Колосков. Разговоры помалу стихли, класс встал.
– Здравствуйте! Садитесь! – Учитель окинул хозяйским взглядом цветастую поверхность колышущихся голов и повернулся к доске. – А это ещё что такое?
На доске, во всю её длину, чьей-то рукой было начертано:
«Сапожков + Остапенко + Малышев = СОМы.
Класс засмеялся, громче всех – Гришка.
– Это кто у нас здесь шутник такой нашёлся? – спросил учитель, стараясь придать своему голосу строгий оттенок, с плохо скрываемой ребяческой смешинкой в прищуренных глазах.
Колосков появился в школе совсем недавно, прямо с институтской скамьи. Молодой, весёлый, как-то быстро и легко влившийся в школьный коллектив, в его будни и в доверие учеников, он, вероятно, ещё и сам не вышел по складу своего характера из того возраста, когда присваивают друг другу разные клички и прозвища. Единственным человеком, который сразу же невзлюбил его, была завуч. Она называла его «недоучившимся молокососом», подрывающим каноны педагогической этики.
– Кто сегодня дежурный по классу?
– Я! – Из-за парты поднялся невысокого роста худенький, чернявый Слава Дреер.
– Доску-то надо в порядок приводить к началу занятий, – сделал внушение дежурному учитель.
– Я её на переменке вытирал!
– Всё вытер, а это, – Колосков указал в сторону надписи, – забыл.
– Ничего я не забыл, – с обидой в голосе промолвил Слава и посмотрел в сторону последних парт, откуда Шишкин из-под стола показывал ему кулак. – Это Шишкин написал, в самый последний момент, когда в классе никого не было: я сам это видел, но не успел стереть.
Все головы разом повернулись в ту сторону, где сидел вроде бы присмиревший Гришка, устремив свой невинный взгляд в потолок и, делающий вид, что к нему всё это не относится.
– У-у, жидовская твоя морда! – тихо, с какой-то ожесточённостью в голосе, выдавил он из себя, не меняя отшельнической позы.
– Ну и подонок же ты, Шишка! – расслышав последнюю фразу и обернувшись в его сторону, негромко произнесла Вера Заболоцкая, лучшая ученица класса, беловолосая, веснушчатая толстушка.
Пока дежурный вытирал доску, учитель занялся проверкой списка классного журнала на предмет посещаемости учениками занятий. С разрешения классного руководителя трое друзей теперь сидели все вместе: Кузя с Саней на предпоследней парте, а за ними, на последней, восседал Митя.
Урок подходил к концу, когда учитель сделал замечание не в меру разговорившимся друзьям: они перешёптывались, энергично жестикулируя руками и что-то доказывая друг другу.
– Эй, на задних партах! Урок надобно слушать, а не шептаться… Шишкин!.. Что шею вытянул, как жирафа? – Учитель давно заприметил, как тот пытается подслушать разговор своих соседей, непомерно вытянув шею в их сторону. – Смотри, так и останется. Скажи-ка мне лучше, о чём я только что рассказывал?
Гришка неохотно поднялся из-за парты и, покашливая, стоял, переминаясь с ноги на ногу.
– Так о чём же шла речь? – повторил свой вопрос учитель. – Ответь нам, не молчи.
В классе воцарилось долгое, томительное молчание.
– Про калий о аш! – еле слышно подсказал ему сердобольный Митька.
Гришка, по-видимому, не понял и навострил слух, слегка подавшись в сторону подсказчика.
– Про калий о аш! – попытался более внятно шепнуть ему Сапожков.
– Только без подсказок! – сделал замечание учитель.
– А мне никто и не подсказывает, – огрызнулся Шишкин. – Вы рассказывали…
– Ну, смелее!
– … про каливаш.
– Про что, про что? – переспросил Сергей Петрович.
– Про каливаш.
Классное помещение наполнилось дружным хохотом и оживлённым обменом мнений и впечатлений о сногсшибательных познаниях своего соклассника.
– Сам ты – каливаш, Шишкин! – сдерживая смех, вымолвил учитель. – Садись, сделай одолжение.
Пройдёт какое-то время и Шишкин поймёт, что допустил тогда непростительную для своего самолюбия оплошность. Бытующая теперь у всех на устах фраза: «Смотрите, вон СОМы идут!», произносимая каждый раз при появлении друзей, была наполнена не тем смыслом, который хотел вложить в неё когда-то Гришка. Произносилась она хоть и в шутку, с некоторой долей зависти, но – почтительно, с уважением, только лишний раз подтверждая нерушимость и святость уз дружбы всех троих, чем, кстати, они по своему и гордились. В тех же случаях и то же самое, только слегка перефразированное изречение: «Смотрите, вон Каливаш идёт!», заставляло Гришку как-то всего сжиматься и втягивать голову в плечи, наполняя разум и сердце его стыдом и ненавистью ко всему окружающему. Да-а, то было фиаско, своего рода – нокаут.
5. Визит к Сапожкову.
За упорной учёбой незаметно промелькнула первая четверть, за ней – другая. Как бы там ни было, но, к великому изумлению завуча Тамары Никифоровны, в дневниках друзей редко, с превеликим трудом, можно было обнаружить даже тройку. Они старались сдержать своё обещание, данное Степану Павловичу.
– Слушай, Кузя! – сказал как-то в один из дней зимних каникул Саня своему другу. – Что-то давненько Митьку нашего не видать. Уж не прихворнул ли?
– Сказал тоже. Его ни один микроб заразный не возьмёт – сам сдохнет! Скорее всего он ушёл в подполье, и нас с собой не прихватил. Давай съездим к нему завтра, – предложил Кузя.
– А может он куда-нибудь и уехал, – высказал предположение Саня. – Слушай, да мы, кажись, и не знаем, где он живёт. Ведь мы у него ещё ни разу не были.
– А это всё потому, что он нас к себе не приглашал.
– Ну надо же какой нахал!
– А может стесняется, или чего-нибудь скрывает от нас.
– Какие могут быть у нас друг от друга секреты? – возмутился Саня. – Ведь мы от него ничего не скрываем.
– Да брось ты, Сань! Это же всего лишь догадки и предположения. Съездим, и узнаем. Он мне как-то издали показывал свой дом, так что не беспокойся, явимся точно по адресу.
Ранним утром следующего дня друзья направились навестить своего товарища. До его жилья надо было добираться трамваем, вниз по спуску, в сторону лесостепной зоны. Дом Сапожковых находился в угловой части окраины старого города, граничащей с лесом. Дальше начинались новые жилые постройки современного микрорайона. Этот единственный, хорошо сохранившийся кирпичный дом, обнесённый деревянным забором, когда-то, по словам Митьки, давным-давно, служил одной из торговых контор, принадлежавших богатой купеческой семье Давыдовых-Лопухиных. Был он на вид небольшим и ничем не примечательным, но казался очень добротным. Располагался он в глубине двора.
– Ну что, стучимся или идём напрямик? – спросил Саня у друга, когда они подошли к калитке дома.
– Только – вперёд! – воскликнул Кузя, решительно отворив дверь калитки, и направился в сторону строения, увлекая за собой Саню. Остапенко уже захлопывал за собой калитку, когда неожиданно был выбит вновь за её пределы стремительным напором метнувшегося в его сторону Кузиного тела. Поскользнувшись, он не устоял не ногах и упал, распластавшись вместе с Малышевым на снегу. И только теперь Саня увидел: по протоптанной в снегу дорожке, со стороны дома, на них мчалась огромная овчарка и, подбежав, остановилась в одном-полутора метрах от них. Не успели друзья даже приподняться на локти, как собака угрожающим рычанием и пугающими выпадами, снова уложила их в снег. И так несколько раз, пока на пороге дома не появилась женщина, видимо, хозяйка дома, привлечённая звуками, доносившимися со двора.
– Альфа! Сидеть! – приказала она собаке, и та послушно уселась на задние лапы, показав свою бездонную пасть с огромными клыками и высунув длинный, красный язык.
– Вам кого надо, ребятки? – приветливо обратилась женщина к потерпевшим.
Те, ещё не полностью овладевшие собой, растрёпанные, с растерянным видом, уже поднимались с четверенек, оба в белых пятнах прилипшего к одежде снега.
– Нам бы, тётенька, Митю Сапожкова! – срывающимся голосом проблеял Саня, с опаской поглядывая на грозного зверя.
– А-а-а, так вы, наверное, те самые Саня и Кузьма, о которых мне Митя все уши прожужжал! – всплеснула руками хозяйка.
Друзья, словно по команде, утвердительно кивнули головами в знак согласия.
– А он дома? – спросил Кузя.
– Митя-то? Ну конечно же дома. Куда ему деваться? Да вы проходите.
Но друзья продолжали стоять по стойке «смирно», не решаясь сдвинуться с места.
– Альфа! Ко мне! – последовала команда.
Овчарка, важно, повиливая хвостом, прошествовала к дому. За ней, отряхиваясь от снега и на ходу поправляя шапки, проследовали и друзья.
– Кто же так гостей встречает? И не стыдно тебе? – пожурила хозяйка собаку, погрозив ей пальцем.
– Здравствуйте! – поприветствовали гости хозяйку, приближаясь к порогу дома.
– Здравствуйте, мальчики! А я – Митина мама и зовут меня тётей Любой.
В свою очередь поторопились представиться и друзья.
– Ну вот и познакомились, – подытожила Любовь Матвеевна.
– Вы нас уж извините, пожалуйста, что без приглашения, – как-то бессвязно стал оправдываться Саня. – Всё гадаем, куда бы это Митя мог подеваться, и не показывается. Дай, думаем, проведаем его: может захворал, или ещё что.
– Ну и правильно сделали, что пришли, – согласилась с ними Митина мама. – А то залёг в своей мастерской, как медведь в берлоге, и целыми днями на свет Божий не появляется. Может быть вам удастся вытащить его оттуда, да встряхнуть маленько.
– А можно его позвать? – спросил Кузя.
– Конечно можно! Гена!.. – крикнула она в приоткрытую дверь.
Некоторое время спустя послышались неторопливые шаги и лёгкое, мужское покашливание. В дверях показалось лицо Митиного отца: Кузя сразу его признал.
– В чём дело, Люба? – переступая порог и с любопытством разглядывая ребят, поинтересовался он.
– Да вот, Митю пришли проведать его товарищи: Саня с Кузей.
– А-а-а! – улыбаясь, воскликнул хозяин. – Как же, наслышан о вас, наслышан. Ну, будем знакомиться: меня Геннадием Акимовичем величать, или просто – дядей Геной.
– Сходи-ка, дядя Гена, да покличь своего сына, – наставительно-шутливым тоном обратилась Любовь Матвеевна к мужу. – А вы, мальчики, проходите в дом, чего зря на морозе стоять.
Ребята неловко топтались на месте.
– Спасибо, тётя Люба, но мы уж лучше тут подождём, – тактично отклонил предложение Саня.
– Ну что ж, вам виднее. Дядя Гена сейчас приведёт Митю, подождите малость. А я вынуждена вас покинуть: обед у меня там варится, подгореть может. Так что уж не обессудьте, – с сожалением в голосе произнесла она мягким, домашним голосом, и скрылась за дверью.
Утро действительно выдалось безветренным и морозным. Хотя на дворе и стояла ясная, безоблачная погода, но в воздухе, наполненном бодрящей свежестью и белесоватой, призрачной дымкой испарений, кружились редкие, крупные снежинки, словно просеянные сквозь невидимое, небесное сито. С ветки древней сосны, стоявшей неподалеку от дома, с оглушительным карканьем вспорхнула большая ворона, стряхнув на шапки и плечи друзей нарядное убранство великана.
Откуда-то со стороны донеслись негромкие голоса и торопливые шаги, сопровождаемые похрустыванием сухого снега под тяжестью ног приближавшихся. Из-за угла дома вынырнул, как всегда, улыбающийся Митька в сопровождении отца. Оба, обутые в валенки, в накинутых на плечи телогрейках, они направились в сторону гостей.
– Ну вот и привёл вам партизана, принимайте по эстафете, – пошутил Геннадий Акимович. – А я, пожалуй, домой пойду: студено что-то на дворе.
– Где ты столько времени пропадал, барбос? – справился Остапенко у Мити после взаимных приветствий и рукопожатий. – Уже скоро и каникулы кончаются, а ты, как сквозь землю провалился. Какой же ты после этого товарищ?
Мите стало как-то неловко и он с виноватым видом стоял, переминаясь с ноги на ногу, так как, по сути дела, ответить ему было просто нечего: уж больно он увлёкся своими проблемами, ушёл в себя и за своими делами забыл даже, что существует окружающий его мир, а вместе с ним и его друзья.
– Ну что, Кузя, – подмигнув тому, спросил Саня, – накажем предателя?
– Ой нака-ажем!
Ребята со всего лёту поддали Митьку своими плечами и тот, от неожиданности потеряв равновесие, грузно примостился в сугробе, вздымая вокруг своей фигуры фонтан снежной завесы.
– Будешь в другой раз знать, как друзей забывать! – торжествовали друзья. – Ну, хватит сиднем сидеть, давай, вставай.
Митька сидел в сугробе, как в кресле с высокой спинкой. Только голова его была слегка откинута назад, как-то неестественно, немного набок, глаза закрыты.
– Вставай! Кому говорят? – повторил Саня, но уже с некоторой тревогой в голосе. – Чего разлёгся?
Но Митька упорно молчал и не хотел двигаться с места. Руки и ноги его были слишком неудобно раскинуты, а одна нога даже подогнута под себя. Ребята, как по команде, обратили внимание на отсутствие признаков жизнедеятельности, которая обычно, особенно на морозе, сопровождается выделением клубов пара, образующихся при дыхании. Ребята не на шутку испугались.
– Митя!.. Что с тобой?.. – надрывным голосом воскликнул Кузя, бросаясь к бездыханному телу товарища.
Он стал тормошить его, а потом бить ладонью по щекам, придерживая другой рукой за подбородок. Но под этими ударами голова лишь безвольно моталась из стороны в сторону.
– Пульс, Кузя, пульс! – весь бледный, дрожа то ли от холода, то ли от нервного переживания, подсказал Саня, сам не в силах сдвинуться с места.
– Что – пульс?
– Пульс пощупай, говорю!
– Хорошо, сейчас. А пока я буду щупать, натри ему лицо снегом, – простонал Кузя, но видя, что тот в нерешительности всё ещё чего-то медлит, слёзно попросил: – Ну скорее же, Саня, миленький! Да три, как можно сильней…
Не успел Кузя докончить предложения, а Саня – поднести к лицу потерпевшего первый комок снега, как оба они вдруг очутились в крепких Митькиных объятиях, по обе стороны от него. Тот спокойно, как ни в чём ни бывало, сидел между своими «спасителями» и с обескураживающей улыбкой поглядывал то на одного, то на другого.
– Ну, как я вас? Кто кого наказал?
– Дурак! – наконец-то придя в себя, с негодованием в дрожащем голосе, вымолвил Кузя, высвобождаясь из Митькиных объятий и вставая на ноги.
– Вот и я говорю: дурак, он на то и дурак, чтобы умного дураком обзывать, – не остался в долгу Сапожков.
Как бы там ни было, в скором времени была заключена мировая, после чего в спокойной, дружеской обстановке прошёл обмен впечатлениями от школьных каникул.
– Куда пойдём? – спросил Сапожков, – в дом, или ко мне в мастерскую?
– Спросил тоже! – донеслось в ответ. – Конечно – в твою мастерскую, а куда же ещё?
– Митя! – Из двери, окутавшейся густыми парами тёплого, белесого воздуха, исходившего из сеней, показалось лицо Митиной мамы. – Что же это ты друзей своих на холоде держишь? Веди их скорее домой, ведь перемёрзнете все.
– Я им сначала мастерскую хочу показать. Ты иди, мам, мы попозже подойдём.
– Только не особо увлекайтесь, – обратилась она больше к сыну, чем к его товарищам, – чтобы обед не прозевать.
Откуда-то вынырнувшая Альфа, принялась обнюхивать незнакомцев. Ребята, как могли, старались увернуться от неё, то изгибаясь дугой, то резко вскидывая ноги.
– Ми-и-итя! А она нас укусить хочет! – пожаловался Малышев.
– Да не бойтесь, она у меня не кусючая, и к тому же – учёная, – поспешил успокоить друзей Митя, потеребив подвернувшуюся под руку собаку по холке. – Это она знакомится с вами. Запомните золотое правило: никогда не дёргайте своими конечностями и не делайте резких движений перед мордой собаки, если она вас не знает. Собаки этого не любят. И ещё, если к вам приближается какой-нибудь Шарик, остановитесь и не шелохнитесь. Если это дружелюбный визит, то он вас просто обнюхает и удалится. А если он хочет напугать вас или укусить, то наберитесь терпения и ждите, пока ему всё это не надоест, и он убежит. Ну, а если это будет уж слишком настырный пёс, то сделайте резкое движение, будто хотите поднять камень с земли и бросить в него: иной раз надо сделать несколько таких движений. Испытанный приём, помогает на все сто процентов.
– А сколько ей? – полюбопытствовал Саня, кивнув в сторону Альфы.
– Ещё двух годков не наберётся.
– Ничего себе – двух годков! Да это же какой-то троглодит! – Кузя всё ещё с опаской, косо поглядывал на собаку. – Предупреждать надо!
– Извините, не успел! – развёл руками хозяин. – Ну что, пошли?
Увязавшуюся было за ними собаку, Сапожков отправил назад, на законно отведённое для неё место. Лучи утреннего солнца, отражаясь от снега, слепили глаза. Обойдя дом, процессия очутилась на территории большого приусадебного участка, занесённой толстым, ровным слоем снега и огороженной сравнительно высоким деревянным забором. Тыльная часть его была обращена в сторону леса, а левая, боковая – в сторону маячивших вдали, в струящихся прозрачных потоках воздуха, новостроек. Тропинка, плотно утрамбованная ногами хозяев, вела в правый дальний угол территории.
Окинув взглядом ту часть местности, в сторону которой они направлялись, приятели не смогли обнаружить каких-либо признаков строений.
– А куда ты нас ведёшь, Иван Сусанин? – послышался вполне резонный вопрос.
– Куда и договаривались, – невозмутимо отозвался Сапожков.
Однако, пройдя ещё с десяток шагов, ребята увидели обозначившийся в угловой части забора метровой высоты снежный бугор, упиравшийся в его поверхность и, по-видимому, продолжавшийся за ним. Контур верхней кромки забора повторял линию контура непонятной возвышенности, поднимаясь с одной её стороны и опускаясь с другой, ближе к углу. Гости сделали вывод, что это длинный, земляной вал, занесённый снегом. Когда они подошли ближе, то оказались перед углублением с неширокой бетонированной лестницей, ведущей под основание вала куда-то вниз. Из-за забора, откуда-то из-под земли, струился лёгкий, белесый дымок.
– Осторожней, не споткнитесь! – предупредил Митя, спускаясь первым и открывая массивную металлическую дверь.
Сразу же за дверью оказалась небольшая площадка с уходящими куда-то вниз ступеньками. Митя щёлкнул выключателем, и где-то в глубине, под ногами спускавшихся ребят, замаячил яркий квадрат света. Миновав его, они очутились в просторном, подземном помещении.
По Митькиным словам это сооружение было построено ещё во время войны, фашистами, а обитала в нём охранная рота СС, оберегавшая какой-то важный, секретный объект. Какой?: да Бог его знает. Никто из местных сторожил и знать того не знает, да и не припомнит. Помещение более двухсот квадратных метров, полностью бетонированное. Они с отцом его переоборудовали: вычистили, утеплили досками, разбили на секции, провели электричество и соорудили большую кирпичную печку, дымоходную трубу от которой вывели через одно из вентиляционных отверстий.
Прямо перед ребятами, метрах в восьми, была расположена сплошная, деревянная, дощатая перегородка, с левой стороны которой чернел открытый проход. Стены освещённого помещения во многих местах были обклеены типографскими оттисками снимков лиц и фигур знаменитых мастеров каратэ в их боевых стойках и позах. Посреди залы лежали два больших спортивных мата, над одним из которых красовалась подвешенная на канате увесистая боксёрская груша, а над другим – длинный, цилиндрический кожаный чехол, чем-то туго набитый и смахивающий на сардельку.
Кузя не упустил случая, чтобы не подскочить к нему и не ударить кулаком. Спортивный снаряд даже не шелохнулся.
– Ух ты! – аж крякнул он от боли в запястье. – Больно, однако! Что у тебя там?.. Железо что ли?
– Хуже! – испугал Митька. – Зачехлённая мешковина с песком, только-то и всего. Сам изготовил.
– А ты что, и шить умеешь? – удивился Саня.
– У мамы научился, – пояснил Сапожков не без гордости в голосе.
6. В Митькиной мастерской.
Друзья стояли, молча разглядывая помещение. Тепло, лившееся откуда-то из глубины недр подземелья, заполняло собой всё окружающее пространство и окутывало необъяснимой, приятной негой.
– Раздевайтесь, а то запаритесь, – предложил Митя, указывая на вешалку, прибитую к стенке. – В этом зале я тренируюсь: обучаюсь всяким приёмам и отрабатываю технику.
– Вот здорово! Показал бы, как ты это делаешь, – восхищённо вымолвил Кузя, когда они разделись и вышли на середину комнаты.
– Не сейчас, как-нибудь в другой раз, – поскромничал Сапожков.
Любопытные взоры ребят невольно приковала к себе какая-то конструкция, разместившаяся недалеко от последних ступенек лестницы, ближе к боковой стенке. Она напоминала собой кресло-качалку, только вместо дуг опиралась на какие-то опоры в виде широких полозьев, загнутых своими концами вверх как спереди, так и сзади. На них была установлена закрытая со всех сторон невысокая тумба с сиденьем и подлокотниками, на одном из которых выступал какой-то рычаг.
– А это что у тебя? Никак – сани? – спросил Малышев, подходя к конструкции и дотрагиваясь до неё рукой.
– Нет. Это инвалидная коляска с инерционным движителем.
– Коляска? – удивился Остапенко. – Вот те на-а! Что же это за коляска без колёс?
– Я не вру, – ответил Митя со свойственной ему улыбкой на лице. – У нас здесь, недалеко, один парень без ног есть, в Афганистане потерял. Для него и смастерил, не до конца, правда. Но он об этом пока ещё не знает. Доработать ещё надо конструкцию.
– А-ну, прокатись, Мить! – попросил Саня.
Сапожков не заставил долго ждать себя. Он подошёл к странной конструкции и уселся в кресло. Положив правую руку на рычаг, он большим пальцем левой руки двинул вперёд какую-то прямоугольную кнопку, размещённую на поверхности левого подлокотника. Под сиденьем что-то зажужжало, послышалось нарастающее гудение. Конструкция начала мелко вибрировать, постепенно переходя в бешеную вертикальную тряску.
– Митя! Ты чего это? – не на шутку встревожился Малышев. – Эка тебя мандражит!
– Да ещё амортизаторы под сиденье нужно поставить, – пропел Митя дрожащим в такт тряске голосом.
Вся его фигура лихо сотрясалась, будто он только что выскочил из проруби. Но вот гудение постепенно уменьшилось, тряска почти что прекратилась, и слышалось лишь негромкое, равномерное жужжание, исходившее из-под сиденья.
– Ну, я поехал! – сообщил Сапожков уже спокойным, ровным голосом радостную новость, потихоньку отжимая от себя правой рукой рычаг.
И… конструкция, сдвинувшись с места и заскользив по полу, как по льду, плавно поплыла по комнате, увлекаемая вперёд какими-то скрытыми, невидимыми силами. Описав круг почёта по всему периметру помещения, конструкция подплыла к лестнице и стала плавно взбираться по ступенькам. Добравшись до верхней площадки лестницы, она легко развернулась на одном месте и так же медленно спустилась вниз. Подрулив к исходной позиции, Митька остановился и двинул кнопку подлокотника на себя. Конструкция вновь стала показывать свой необузданный нрав, переходя на гул с бешеной тряской, затем – на мелкую вибрацию с последующим жужжанием и, наконец, всё стихло.
– Вот и всё, приехали! – доложил водитель, поднимаясь с кресла. – Ну и как первое впечатление?
– Здорово Митька, просто – здорово! – промолвил Остапенко, и добавил: – Но амортизаторы всё же не забудь поставить, а то представляю, в каком положении очутится твой подопечный.
– Всё ясно! – подал Кузя свой голос. – Одно только не ясно: как и за счёт чего перемещается коляска, и… как она вообще работает.
– В таких случаях обычно говорят: «Всё ясно, только ничего не ясно!», – засмеялся Саня.
– Нет ничего проще, – ответил Митя, откидывая верх сиденья. – Объясняю, популярно. Конструкция представляет собой кресло, установленное на широкие деревянные полозья с подбитыми снизу толстыми полосами резины. Пространство под откидным сиденьем закрыто, со всех сторон, металлическим кожухом, внутри которого располагается редуктор. Его входной вал соединён с валом небольшого электродвигателя, питаемого от аккумуляторной батареи, установленной за спинкой кресла. Редуктор имеет два параллельных выходных вала, лежащих в одной горизонтальной плоскости и разнесённых на некоторое расстояние друг от друга.
На эти валы насажены и закреплены два эксцентрика, представляющие собой массивные, широкие, металлические диски со смещённой геометрической осью, а, следовательно, и со смещённой массой в их радиальном направлении.
Кнопка на левом подлокотнике служит для включения электродвигателя, а рычаг на правом – для управления движением коляски. При движении рычага в ту или иную сторону весь корпус редуктора, совместно с электродвигателем, наклоняется то вперёд, то назад, поворачивается то вправо, то влево. В момент отпускания рычага корпус редуктора, с электродвигателем, при помощи пружинящих элементов самоустанавливается в исходное, нейтральное положение. При этом, оба его выходных вала с эксцентриками вновь возвращаются в горизонтальное положение…
Поясняя устройство конструкции, Митя до того увлёкся, что чуть было не перевернулся через неё, споткнувшись обеими ногами о полозья: друзья успели вовремя поддержать его.
– Так и голову можно себе свернуть на ровном месте, – подметил Саня.
– А это значит, что жить – тоже вредно для здоровья, – добавил Кузя.
Митя, сложив на груди руки и приняв непринуждённую позу, посмотрел на друзей, словно строгий учитель на провинившихся учеников.
– Жизнь, – поучительно произнёс он, – великое искушение, за которое надо расплачиваться. Вот так-то, друзья мои!
– Ну ты и артист, Сапожков, – рассмеялись ребята.
– Артист ни артист, но кое-что могём, – загадочно улыбаясь, вымолвил тот, и продолжал:
– Конструкция работает следующим образом. Включаем кнопку. Начинает работать электродвигатель, приводящий во вращательное движение, через редуктор, оба эксцентрика, крутящихся в рабочем режиме со скоростью в три тысячи оборотов в минуту. Вращение эксцентриков – синхронное, разнонаправленное. Их центры тяжести всегда равноудалены от их общей оси симметрии, лежащей в плоскости вращения самих эксцентриков. Если во время вращения эти центры тяжести оказываются внизу, то коляска, под действием инерционных сил, как бы прижимается к земле, а если – наверху, то ей сообщается дополнительный импульс силы, направленный вертикально вверх и влекущий всю конструкцию за собой. Таким образом, коляска будет только вибрировать на одном месте, вместе с кучером, в вертикальной плоскости.
Когда же центры тяжести эксцентриков окажутся на максимальном или минимальном расстояниях друг от друга, то инерционные силы начинают работать, соответственно, как бы на разрыв или сжатие корпуса редуктора, не сообщая конструкции движущих импульсов силы.
При наклоне, рычагом, корпуса редуктора вперёд или назад появляется горизонтальная составляющая импульса силы, толкающая всю конструкцию вперёд или назад. Если при этом ещё редуктор и разворачивать рукояткой, то коляска начинает так же разворачиваться, будучи дополнительно скреплённой с корпусом редуктора пружинящими элементами. При этом, во время движения конструкции, появляющаяся отрицательная горизонтальная составляющая импульса силы в тот момент, когда центры тяжести эксцентриков находятся внизу, гасится компенсирующей силой трения между землёй и резиновыми подошвами полозьев.
Конструкция обладает большой маневренностью и проходимостью: разворачивается на одном месте на все триста шестьдесят градусов; свободно передвигается по тверди и слякоти, по снегу и льду, по лестницам, ну, и так далее. Вот по воде, жаль, не может.
Последние слова Митька произнёс с превеликим сожалением в голосе.
– Ты бы ещё пожаловался, что и по воздуху не может летать, – вымолвил Кузя. – Больно много захотел. Ну ты только глянь на него, Сань: изобрёл такое, что ещё никто не изобретал, и всё ещё чем-то недоволен. Вот поросёнок!
– Да-а-а, – почесав затылок, озадаченно протянул Остапенко, когда Сапожков, захлопнув сиденье коляски, закончил свои разъяснения. – Как всё просто оказывается. Не зря, видать, говорят, что простота – родная сестра таланта. Ну, ты – голова-а-а!
– Два уха! – добавил Малышев.
– Почему – два? – недоумённо переспросил Митя, пребывая в каком-то задумчиво-отрешённом состоянии.
– По кочану, да по кочерыжке! Но не три же? – засмеялся Кузя, хлопнув друга по плечу. – Где ты-ы-ы?.. Опустись на зе-е-емлю!
– А-а-а, – в смущении вымолвил Митя, резким встряхиванием головы отгоняя какие-то мысли.
– Давай, не томи, показывай дальше свою мастерскую, – обращаясь к нему, поторопил Саня.
– Идём! – Митя увлёк за собой товарищей а тёмный провал прохода в углу комнаты, тянувшейся вдоль левой стенки подземелья. – Это у меня коридор, метров двенадцать, пожалуй, будет в длину. По правую сторону – двери, по левую – глухая стена.
Он отворил самую первую дверь и включил освещение. Перед пытливым взором ребят предстало удивительное зрелище. Прямо напротив себя они увидели, почти что во всю длину противоположной стенки, высокий стеллаж, упиравшийся в потолок на его трёхметровой высоте. На множестве полок, поражая своим обилием и разнообразием, красовались различные конструкции авиамоделей, начиная от уже известных ребятам планеров, резиномоторных моделей, моделей с электроприводом и с малогабаритными поршневыми двигателями внутреннего сгорания, и, кончая какими-то странными, непонятными конструкциями моделей. Все они были тщательно, мастерски отделаны и «приглажены», отполированы и покрашены красками разных тонов и оттенков. Зрелище было до такой степени необычным, что у друзей тут же сработал эффект « отвисания челюстей и формирования квадратных орбит», после чего вопросы посыпались, как из рога изобилия. Сапожков охотно отвечал и терпеливо объяснял.
– И когда только ты всё это успеваешь: и учёба, и модели, и каратэ?.. – послышалось приглушённое восклицание кого-то из друзей, пришедших, как видимо, в неописуемый восторг.
– Ну, модели я стал строить, когда ещё в школу не ходил, а каратэ начал заниматься, почитай, с первого класса, – смущённо потупив глаза, ответил улыбчивый Митька.
По всей мастерской распространялся сладковатый, приятно щекотавший в носу запах нитроклея, эмали, лаков, краски, свежей древесной стружки и ещё чего-то такого, что свойственно только для авиации. Словно завороженные, ребята были всё ещё не в силах оторвать своих взглядов от стеллажей.
– А вот это – моё рабочее место, – указал Митя рукой в один из углов мастерской, пытаясь вывести друзей из оцепенения, в котором они ещё пребывали.
– Чего, чего? – вразнобой переспросили друзья, с трудом переводя свои помутневшие взоры в его сторону и, по-видимому, ничего ещё не соображавшие.
– Да так, ничего! Кобыла у соседа сдохла! – объявил Сапожков.
– Какая кобыла? – дружно переспросили ребята, начиная помалу приходить в себя.
– Седая! – расхохотался Митя.
– У-у-у, злыдень! – негодующе воскликнул Саня. – Такое сотворить и молчать! Где только совесть твоя?
Наконец-то друзья огляделись вокруг себя. Вдоль одной из половинок стены, напротив стеллажа, разместился слесарный верстак с большими тисками, наковальней и разными инструментами. Вдоль другой половины стены стоял большой деревянный стол с превеликим числом наборов столярных и плотницких инструментов, и плазом, на котором, по Митькиным словам, он изготавливал детали и собирал модели. Между столом и верстаком располагалась входная дверь. Часть левой боковой стенки занимал универсальный станок по обработке металла и дерева. В стенке, вдоль которой размещался стеллаж, с правой стороны, виднелась небольшая дверка.
– А это что у тебя за дверь? – спросил Малышев.
– Там топочная комната. – Не включая в ней свет, Митя распахнул дверь.
Не преминув воспользоваться этим, ребята просунули в неё свои любопытные головы. На них пахнуло теплом и повеяло запахом свежих горящих поленьев. Комната освещалась мерцающими сполохами пылающей топки, проникавшими сквозь щели печной дверцы и колосники поддувала.
После окончания общего осмотра мастерской, взоры посетителей были вновь прикованы к стеллажу с моделями. Особенно впечатляли, невольно бросаясь в глаза, две конструкции. Ребята приблизились к одной из них, внешний вид которой сильно напоминал очертания парящего альбатроса с полусложенными крыльями.
– Модель эта построена год тому назад, – пояснил Сапожков и, взяв её осторожно под фюзеляж, перенёс на рабочий стол.
– Красаве-е-е-ец! – восторженно вымолвил Саня.
– Конструкция модели представляет собой сигарообразный фюзеляж с воздухозаборником в его носовой части, – принялся пояснять Митя без всякого предварительного вступления. – Воздухозаборник этот образован конусом, выступающим своей вершиной из центрального носового отверстия и внутренней поверхностью обшивки фюзеляжа.
Поток воздуха, поступающий через воздухозаборник, и далее – через внутреннюю полость фюзеляжа, подаётся через диффузор на лопатки компрессора турбореактивного двигателя, установленного в хвостовой части фюзеляжа. В ней же располагается и хвостовое оперение, состоящее из вертикальной плоскости – киля и горизонтальных – стабилизаторов, расположенных на верхней кромке киля. Кабина пилота располагается почти что в носовой части аппарата.
Особенностью этой конструкции является конструкция крыльев, каждое из которых выполнено в виде латинской буквы «V». Передняя его кромка начинается где-то примерно за серединой фюзеляжа и идёт под сильным отрицательным углом к его оси. Заходя за кабину пилота, она резко изменяет своё направление и идёт под таким же острым углом назад. Задняя кромка, с аэродинамическими плоскостями управления, повторяет контуры передней. При этом, по всей своей длине, идёт на сужение к концевой своей части. Опирается конструкция на три стойки с шасси.
Благодаря такой конфигурации крыльев, увеличивается не только их общая площадь, но и стреловидность каждого из них в отдельности, что должно обеспечивать большую скорость аппарата на марше при малых взлётных и посадочных скоростях…
Ребята, внимательно слушавшие своего товарища на всём протяжении его пояснений, уважительно, с некоторой долей зависти, посматривали в его сторону. В конце концов тот с невозмутимым видом водворил конструкцию на прежнее место и установил на плаз другую, не менее оригинальную конструкцию.
– Эта модель, – продолжал Митя, – отличается от первой наполовину укороченным фюзеляжем с сильно заострённой носовой частью, расширяющейся к хвостовой, в которой так же установлен турбореактивный двигатель. Лунообразный воздухозаборник находится прямо под пилотской кабиной, которая расположена в непосредственной близости от носовой части. Стреловидные крылья, с направленными назад передними и задними кромками, заканчиваются укреплёнными к их торцам параллельными, вертикальными плоскостями, сравнительно длинными, в конце которых располагаются по одному килю и по одному стабилизатору, то есть, последние, оказываются разнесёнными в противоположные стороны от продольной оси фюзеляжа. Задняя кромка каждого крыла начинается от самого конца хвостовой части фюзеляжа и, немного не доходя до вертикальной плоскости, резко изменив своё направление, идёт к заднему торцу этой плоскости, образуя очень острый угол. Тем самым достигается дополнительная жёсткость конструкции крыла в полёте во время маневров. Под фюзеляжем на пилонах подвешен веретёнообразный топливный бак. Конструкция так же опирается на три стойки с колёсами.
– И этот тоже красаве-ец! – с видом знатока резюмировал Кузя. – Даже фигурки лётчиков ухитрился туда всунуть. У меня на подобные вещи терпения бы не хватило.
– Не хвали его, а то зазнается, – буркнув под нос, предостерёг Саня. – А зазнается, говорить с нами не захочет.
Пока друзья переговаривались, Митя стоял и терпеливо слушал их, ни к чему не обязывающую беседу, предоставив им короткую передышку. Улыбка гуляла по его лицу и, казалось, вот-вот сползёт с него и поплывёт в поднебесье.
– Если я что-то не ясно рассказываю, – сказал Сапожков, когда друзья приумолкли, – то спрашивайте, не стесняйтесь, чего уж там.
– Понятней рассказать и нельзя, – успокоил Саня. – Ты у нас в этом деле, оказывается, ба-а-альшой профессор. Давай, лучше, рассказывай дальше.
– Достоинство этой модели в том, – незамедлительно последовал тот совету друга, – что каждая из двух пар – киль-стабилизатор – разнесены друг от друга симметрично в разные стороны и, следовательно, во время полёта находятся вне зоны влияния крыла. А это должно обеспечивать достаточные устойчивость и управляемость аппарата в условиях полёта. Обе модели выполнены в масштабе «один к десяти».
Пока Митя рассуждал о достоинствах конструкций, Малышев всё норовил заглянуть в заднее отверстие фюзеляжа, наклоняя голову то в одну, то в другую сторону, то приседая. Наконец он пожал плечами и отошёл в сторону.
– Чего это ты там всё пытался высмотреть? – поинтересовался наблюдательный Митя.
– Чего?, спрашиваешь. Да вот, меня искушают большие сомнения, друг мой! – поспешил сообщить Кузя. – Двигатель высматривал. Где он? Отвечай!
Сапожков смотрел на Малышева с определённой, в строгих, разумеется, рамках, долей дружеской иронии и презрения, сложив руки на груди и слегка притопывая ногой.
– Кому говорят? – не унимался Кузя. – Отвечай!
– В нашем деле, – немного помолчав, рассудительно вымолвил Митя, – главное – выдержать паузу.
– Это, конечно, тоже своего рода – тактика, – похвалил его Кузя, – да только косолапая какая-то.
– Вот-вот, я и говорю, – спокойно продолжал Сапожков, – успокойся, отрок, и наведи порядок в мыслях своих.
– А всё-таки здорово! – подал свой голос молчавший до сих пор Остапенко. – Правда Кузя?
– Клёво! – подтвердил тот. – Но всё равно: не вижу двигателя.
– Я же сказал – успокойся! Вот он. – Митя подошёл к металлической тумбочке, стоявшей возле слесарного верстака, и расчехлил какую-то небольшую конструкцию, возвышавшуюся на ней. Он любовно похлопал рукой по серебристой обшивке овального корпуса двигателя величиной с консервную банку из-под кофе, может быть чуточку подлиннее. – Я его закрепил вот на этом кронштейне, – пояснил он, дотрагиваясь до невысокой металлической стойки, неподвижно соединявшей корпус двигателя с массивной станиной тумбочки. – Это для того, чтобы он не улетел во время работы.
– А он у тебя вместе с тумбочкой, того, не улетит? – пошутил Саня.
– Только вместе со мной.
– А запускать ты его пробовал?
– Несколько раз. Работает, как зверь, – сообщил Сапожков, и спросил: – А с устройством и работой подобного двигателя вы знакомы?
– Так, в общих чертах, – признался Саня, – да и то – очень расплывчато.
– Тогда придётся пояснить. – Митя почесал свой затылок, раздумывая, с чего бы начать. – Значит так! Любой турбореактивный двигатель состоит из осевого компрессора, турбины и камеры сгорания, размещённых внутри корпуса двигателя. Компрессор и турбина насажены на общий продольный вал. Компрессор своими лопатками из окружающего пространства засасывает воздух и подаёт его в камеру сгорания, где он, смешиваясь с впрыскиваемым в неё топливом, воспламеняется. Раскалённые газы, выходящие из сопла камеры сгорания, воздействуют на лопатки турбины, заставляя её вращаться. А так, как турбина и компрессор насажены на общий вал, то вращается и компрессор, который, в свою очередь, своими лопатками засасывает воздух через центральное отверстие, называемое диффузором. Понятно я говорю?
– Чего ж тут непонятного? – ответил Кузя. – Давай, валяй дальше.
– Чтобы воспламенить, на первых порах, топливную смесь в камере сгорания, её необходимо поджигать электрической искрой. В дальнейшем смесь уже сама воспламеняется, без искры, за счёт температуры раскалённых газов.
– Но в этой конструкции есть одна особенность, – продолжал далее Митька. – Здесь установлены на общий вал не один, а два компрессора. Первый, что находится впереди, засасывает воздух, как это и полагается, через центральный диффузор и гонит его в прямом направлении. Второй же компрессор, расположенный сразу за первым, так же засасывает воздух, но через кольцевой диффузор, опоясывающий собой центральный, и гонит воздух во встречном потоку первого компрессора направлении. Поэтому оба компрессора имеют одинаковые, но противоположные углы наклона своих лопаток. Воздух сжимается между компрессорами и под большим давлением подаётся в кольцевую камеру сгорания. Ну, а дальше всё идёт так, как я вам объяснял. Такая конструкция должна, на мой взгляд, увеличить мощность двигателя в полтора-два раза, при том же количестве расхода топлива, как и у обычных турбореактивных двигателей.
Митька на минутку замолчал, переведя свой взгляд на друзей, внимательно слушавших его, и, оценивая их реакцию на только что прочитанную лекцию. Оставшись довольным от вида их сосредоточенных, покрасневших от напряжённой умственной деятельности физиономий, он продолжал:
– Могу показать в работе, только – недолго, не больше полутора-двух минут, а то перегреться может. Ну как, показывать?
– Чего тут спрашивать-то? – возмутились ребята. – Мы уже давно горим синим пламенем от нетерпения, а ты всё сомневаешься.
Сапожков наклонился над установкой и стал что-то регулировать, что-то подвинчивать и подкручивать, заглядывая то с одной, то с другой стороны под корпус двигателя. Ребята, словно заворожённые наблюдали за действиями своего друга, который неторопливо священнодействовал подле своего творения, будто факир перед своим «чёрным ящиком», из которого вот-вот должен был бы вырваться наружу волшебный, огненный джин.
– Следите внимательно! – предупредил Митя, щёлкая тумблёром. – Подаю в камеру сгорания искру от высоковольтного преобразователя напряжения: он у меня от «кабээсок» работает.
Из чрев установки донеслось лёгкое, непрерывное потрескивание высоковольтного разряда.
– Теперь, туда же, подаю топливо, – пояснил он, включая другой тумблёр, – керосин.
Послышалось монотонное жужжание реле, качавшего топливо. И тут же двигатель сначала несколько раз чихнул, выплёвывая из себя с глухим гулом тёмные клубы дыма, а затем, плавно переходя на высокие тона, зашёлся пронзительным свистом, от которого у ребят заложило уши, и они, сморщившись, позакрывали их ладонями. Из сопла двигателя вырвался столб пламени длиной в полметра. Зрелище было впечатляющим, в особенности, когда Митька специально выключил свет. Создавалось такое впечатление, будто двигатель не стоит на месте, а несётся в дрожащих отблесках своего пламени куда-то в неведомые дали, увлекая за собой друзей вместе с их надеждами и тревогами, мечтами и сомнениями.
Вскоре Митька включил свет, подошёл к установке и поочерёдно щёлкнул тумблёрами. Проработав ещё несколько секунд, вырабатывая оставшееся топливо и переходя с высоких тонов на низкие, а затем и на гудение, двигатель, чихнув два-три раза, остановился и смолк. В мастерской воцарилась тишина.
– Потрясающе! – нарушил её покой Санин голос. – Феноменально. По моим скромным подсчётам и соображениям, ты, Митька – талант, вот ты кто!
– Бери выше! – поддержал Кузя.
– Да ладно вам, шутить изволите, – смущённо вымолвил стеснительный Сапожков, как-то недоверчиво, исподлобья поглядывая на друзей.
– Ничего не шутим, точно говорим.
– Если бы не батя, я бы в жизни всего этого не сделал.
– Какая разница? Идеи-то всё равно – твои.
– Мои не мои, а что бы в том толку было, если бы я не смог их релизовать?
– Реализовать! – тактично поправил Малышев.
– Ну да, я и говорю – реализовать! – поправился Митька с видом, полным достоинства. – Так вот, на уже знакомые вам модели мне и хотелось бы установить этот двигатель.
– А не слишком-то тяжёлыми окажутся тогда твои конструкции? – попробовал усомниться Кузя.
– А ты попробуй сам модели на вес, предложил конструктор.
Малышев подошёл к стеллажу и осторожно поднял под фюзеляж сначала одну, а за ней – другую модель.
– Слушай, Сань, – удивился он, – и вправду – лёгкие. Попробуй.
– Да-а-а, – сделал тот изумлённые глаза после того, как уступил просьбе друга, – на килограмм потянет, не больше.
– На восемьсот граммов, – уточнил Митя. – Плюс двигатель со всеми системами питания – полкило, плюс система радиоуправления не более двухсот граммов. Итого, килограмма на полтора наберётся.
– А ты что, сам и схемы радиоуправления конструируешь? – оживились ребята.
– То-то и оно, что нет, – разводя руками, честно признался Сапожков. – Я плохо пока в этом разбираюсь. Да и вообще, мне железки как-то ближе к сердцу.
Он подошёл к стеллажу и расшторил несколько полок, прикрытых матерчатой занавеской.
– Вот тут у меня есть кое-какая литература по этому вопросу: в «Букинисте» купил. Да что-то уж больно сложно для меня.
На полках стеллажа бессистемно размещалось превеликое множество книг. Какой только литературы тут не было: и техническая, и художественная, и спортивная, и большое количество другой. Нашлись даже книги по кулинарии и по поварскому делу. Друзья перелистали несколько книг по радиотехнике.
– Не переживай, поможем! – обнадёжил Кузя. – У нас с Саней в этом отношении уже есть кое-какой опыт.
– Правда?! – обрадовался Сапожков. – Тогда я могу спать спокойно. – Немного о чём-то подумав, он добавил с некоторой долей сожаления: – Но это, наверное, уже после окончания четвёртой четверти. Помните, что обещали мы Степану Палычу?..
– Ми-итя! – донёсся откуда-то из-за стенки призывный голос Митиной мамы.
Тот приоткрыл дверь, высунув в неё голову.
– Чего, мам?
– Ух как ты начадил тут своим керосином. Пора обедать, уже час дня.
7. Ну, Митька, не ожидали!
Наспех накинув на себя шубы, друзья бегом направились к дому. Очутившись в освещённых сенях, они заполнили их клубящимися облаками пара, исходившими от одежды и учащённого дыхания, и пеленой застилавшими свет электрической лампочки.
– А-а-а, явились, орлы?! – приветливо воскликнул Геннадий Акимович, входя в просторную переднюю с газетой в руке и с водружёнными на лоб очками.
– Являются черти, и то – только во сне.
– Ну, ты, Митяй, ещё подерзи, подерзи отцу-то! – зычным голосом пригрозил отец сыну. – Давно ремень по тебе плачет.
– Я больше не буду, – сделал испуганные глаза Митька.
– То-то же, давно бы так.
В воздухе носился волнующий, щекотавший ноздри и воображение запах варёной картошки, жареной рыбы, печёного теста и ещё чего-то такого невообразимо вкусного. Друзья моментально ощутили во рту непонятные спазмы и обильное слюноотделение, непроизвольно сделав несколько судорожных, глотательных движений. Высокая калорийность предстоящего обеда не вызывала никаких сомнений.
– Быстренько раздеваться, мыть руки и – за стол, – скомандовал отец.
Быстро преодолев формальности, друзья уселись за большой кухонный стол и приступили к обеду.
– Не обессудьте, мальчики, у нас здесь всё по простому, чем богаты, тем и рады, – приговаривала каждый раз Любовь Матвеевна, заменяя быстро опорожняемые тарелки на новые с вкусным украинским борщом, с варёной, толчёной картошкой и устанавливая посреди стола огромную миску с жареной рыбой. – Ешьте себе на здоровье. Может кому добавки?
А потом друзья ели пирожки с мясом и запивали их молоком.
– Много чего нам Митя про вас рассказывал, – добродушно говорил за обедом Геннадий Акимович. – Как повёлся с вами, так и учиться хорошо стал, сорванец. А вот почему-то о Кузьме думал, что росточком поменьше будет.
– Папа! – возмутился Митька.
– Что – папа? Сам же говорил.
– Ну ты меня убиваешь!
Малышев и действительно очень сильно вытянулся за последние полгода, обогнав Екатерину Николаевну почти что на полголовы, и догоняя Саню.
– Ладно, ладно! Я ведь это так, от хорошего настроения, – примиряюще засмеялся отец. Он уже успел опрокинуть в честь гостей три стопки и сообщить, что хорошо знаком с Богданом Юрьевичем по работе, а с Иваном Ивановичем, Кузиным отцом, он встречался года четыре тому назад, когда тот собирался писать о нём обширную статью в районной газете.
– Хорошие, толковые мужики, побольше бы таких, – вымолвил он, утвердительно мотнув головой, – не то, что этот – Вен-Бен-Ши.
Ребята догадывались о ком идёт речь: так в народе прозвали директора моторостроительного завода – Вениамина Бенедиктовича Шишкина, Гришкиного отца. На заводе его недолюбливали за чрезмерную самоуверенность и какой-то въедливо-докучливый характер.
– Ну чего ты плетёшь, Гена? – упрекнула мужа Любовь Матвеевна, раздражённо забирая от него властной рукой бутылку и пряча её в шкаф.
– Лю-юба, Лю-юба, – разгубленно воскликнул он ей вслед, а потом, безнадёжно махнув рукой, залпом допил недолитую рюмку водки.
Воцарилось неловкое молчание, нарушаемое потрескиванием сухих поленьев в русской печи, да тиканьем настенных ходиков.
– Вы его, ребятки, не слушайте, – сказала Любовь Матвеевна, возвращаясь к столу и с укором посматривая в сторону мужа. – Выпил маленько лишнего, вот и несёт всякую ахинею.
Окончив трапезу и встав из-за стола, друзья поблагодарили хозяев за вкусный, сытный обед.
– Гена! Кур надо бы покормить, – напомнила хозяйка мужу, собирая со стола, – с самого утра ведь не кормлены. Да, и дровишек малость наколите вместе с Митей. А я уж как-нибудь постараюсь развлечь наших дорогих гостей. Ну, ступайте же.
Пока её мужчины занимались исполнением возложенных на них домашних обязанностей, Любовь Матвеевна успела кратко, но содержательно, рассказать о своей семье. Под конец она упомянула о Митькиной стеснительности, о его душе «врастопырку» и о том, что он любитель иной раз приврать.
– Да мы за ним подобного что-то не замечали, – переглянулись друзья.
– И не заметите. Он у меня вели-и-икий артист. Ну ничего, всё ещё впереди, – как-то уж больно загадочно произнесла Любовь Матвеевна. – Но от меня он всё равно ничего не скроет. Я по нему сразу могу определить, когда он говорит неправду.
– А как это вам удаётся, тёть Люб? – поинтересовались гости.
Она добродушно рассмеялась и в глазах её засветились весёлые, хитрые огоньки.
– Как? А когда он мне врёт, то, не ведая того сам, делает вот так, – и она, прижав большой палец левой руки к ладони, сжала его в кулаке.
Раскрасневшиеся от мороза, в дверь ввалились отец с сыном, неся в своих объятьях по охапке дров, пахнущих свежестью леса и зимнего дня. Скинув дрова на пол, они аккуратно сложили их под небольшую нишу рядом с печкой.
– Что ещё, мам? – спросил сын.
– Больше ничего, дальше я уже сама справлюсь. А вы идите, занимайтесь своими делами.
Любовь Матвеевна продолжала хлопотать на кухне, Геннадий Акимович уселся в гостиной смотреть воскресную телепередачу, а Митя повёл своих друзей в свою комнату. Обставлена она была просто и неприхотливо, без всяких излишеств, по-спартански: стол с тремя стульями перед окном, две аккуратно застеленные кровати, над одной из которых висел в рамке портрет улыбающегося, молоденького морячка, а над другой – гитара на верёвочке, книжная полка в углу, да вот, пожалуй, и всё.
– А это кто? – спросил Малышев, указывая на портрет.
– Федя, брательник мой, старший. В мореходном училище учится, – не без гордости ответил Сапожков.
– А гитара чья? – поинтересовался Остапенко, протягивая к ней руку.
– Моя, конечно.
– А можно?
– Чего спрашиваешь? Конечно бери.
– Эх ты, балда! Чего же раньше молчал, что умеешь играть на гитаре? – пожурил Саня друга, снимая инструмент с гвоздика. – Получается что-нибудь?
– Да когда как: иной раз – получается, иной раз – нет.
Саня присел на краешек стула и стал перебирать струны, перемежая аккордами. Но получалось плохо, игра была прямо-таки неважнецкой. Потом он стал пиликать на одной струне какую-то, только одному ему известную мелодию. Кузе, смиренно сидевшему в качестве слушателя со сложенными на коленях руками, в конце концов всё это дико надоело.
– «Не тяни кота за хвост!» называется, – сделал он вслух заключение. – Послушай, Санька, – обратился он к исполнителю, потеряв всяческое терпение. – Кончай модулировать эфир своими трелями. Видишь, у меня от твоей игры уже и уши успели отвиснуть, как у слона.
– Ничего, звучная, – проигнорировал Остапенко словесный выпад друга, с видом знатока похвалив всевозможные качества музыкального инструмента и похлопав ладонью по его корпусу.
– Мить, сыграй-ка лучше ты нам что-нибудь, – попросил Кузя.
Долго упрашивать того не пришлось. Он нежно, как-то благоговейно, взял в руки протянутую Саней гитару, присел на уголок кровати, немного подумал и без всякой предварительной подготовки заиграл, а потом… запел. Но как он играл, как он пел! Друзья, не шелохнувшись, затаив дыхание, сидели и завороженно слушали друга. А пел он свою любимую песню о море, про флибустьеров, о бригантине, которая поднимала паруса, о «Весёлом Роджере» и людях Флинта.
– Ну-у, Митька, не ожидали! – нарушил молчание Кузя, когда песенка была окончена. – Молоде-е-ец! Где это ты так здорово научился? Послушай, спой ещё что-нибудь.
И Митя заиграл и запел снова, а затем – ещё и ещё: о васильках, что росли в поле, о Есенинском клёне и о матери-старушке, которая всё ждёт, не дождётся своего сына…
Через полчаса друзья вновь очутились в мастерской.
– Вы тут посидите немного, – обратился к друзьям Митя, – а я сейчас, только дровишек подкину в печурку.
– Мить! – остановил его Малышев. – А что это вон там у тебя, спрятанное, висит?
– Где?
– Да вон там! – указал он на что-то прикрытое материей и подвешенное к самому потолку на длинной бечевке.
– А-а, – улыбнулся тот. – Это дископлан. Вы уж потерпите чуточку, я быстренько обернусь.
Сапожков вышел, а Малышев поднялся с табуретки и хотел было направиться в сторону предмета его любопытства. Однако Саня успел осадить его, схватив за край рубашки, выбившейся из-под свитера, насильно водворив на прежнее место.
– Чего тебе? – огрызнулся Кузя.
– Ничего. Сядь себе и сиди на одном месте, – спокойно ответил Саня. – Тебе же было сказано: «Потерпи!»
– Потерпи, потерпи! А что, нельзя что ли?
– Нельзя! Любопытной Варваре нос оторвали!
8. Сапожков, ты – гений техники!
Митя приоткрыл дверку печки. Огонь еле-еле тлел, пробиваясь сквозь пористую, спечённую угольную массу. Слегка разворошив её, он выгреб пепел и подбросил в печь свежую порцию древесного угля…
Будучи по своему складу характера душевным и очень стеснительным, он стыдился всех своих достоинств, так щедро отпущенных ему природой, и пытался скрыть некоторые из них под маской напускного равнодушия. Многие бы из его сверстников не преминули бы воспользоваться подобными качествами и непременно бы гордились этим, выпячивая напоказ. Мимо чего бы он не проходил, за что бы не брался, всё приобретало в его руках какую-то свежесть и новую окраску, облагораживалось и совершенствовалось, впитывая в себя элементы новизны и неуёмной фантазии.
Пытливый, раскрепощённый ум, плюс какая-то обострённая интуиция не позволяли ему долго задерживаться на одном и том же месте. Так было, например, в секциях авиамоделизма и каратэ, наставники которых считали Митьку одарённым, но трудно управляемым воспитанником: он плохо вписывался в рамки их учебных программ, занимаясь, по их словам, «самодеятельностью».. Он покинул эти секции, уйдя с головой в самообразование.
Больше всего на свете Митька боялся предстать перед своими сверстниками хвастунишкой или выскочкой. Поэтому он долгое время и не решался пригласить к себе друзей, полагая, что в этом случае он будет просто вынужден «хвастать» своими достижениями. А сами они не напрашивались. «Но что же это за дружба такая?» – входил в противоречие с собой Сапожков. В его сознании постепенно накапливалось и укреплялось чувство детской обиды за то, что плоды его активной, творческой деятельности, которые может быть, когда-нибудь, ещё очень и очень понадобятся всему человечеству, так и останутся невостребованными, никем не понятыми и никому не нужными. Мятущаяся душа требовала выхода, необходима была отдушина. И вот судьба свела его с теми, кого так долго ждал и в кого сразу поверил. А те, словно прочитав его мысли, сами пришли на помощь…
Друзья ждали Митиного прихода, умостившись на табуретках и тихо переговариваясь.
– Это, как я вам уже говорил, дископлан, – сразу же начал Митя, входя в помещение и направляясь к конструкции. Он сбросил с неё матерчатую накидку и перед глазами друзей предстал необычный летательный аппарат.
– Мать честная! – не выдержал Малышев. – На летающую тарелку похожа.
Сняв дископлан с подвески, Митя поставил его на пол. Конструкция опиралась на своеобразное шасси – трубчатую, кольцевую опору, соединявшуюся с корпусом аппарата четырьмя стойками.
– Самое главное здесь – дисковое крыло с центральным отверстием, – вдохновенно принялся пояснять Сапожков. – Его передняя кромка «смотрит» вовнутрь этого отверстия, а задняя, острая, образует наружный диаметр дископлана. Этот диаметр равен одному метру, а диаметр внутреннего, центрального отверстия – его половине.
Митя опустился на колени, жестом руки приглашая друзей последовать его примеру.
– Внутри отверстия расположены, одна над другой, две горизонтальные лопасти, которые вращаются во взаимно противоположных направлениях с большой и одинаковой окружной скоростью. – Он засунул пальцы руки в область отверстия, указывая на лопасти винтов. – Они гонят воздух навстречу друг другу, снизу и сверху, сжимают его между собой и выбрасывают под давлением на переднюю кромку крыла. Подъёмная сила обеспечивается обычным профилем крыла. Лопасти тут, правда, не особо хорошо просматриваются: их заслоняют собой вот эти две полусферы, одна из которых наверху, над лопастями, а другая – внизу, под ними.
Ребята, склонившись и вытянув шеи, внимательно слушали и рассматривали то место, куда указывал Митя.
– В верхней полусфере находится кабина пилота, а в нижней – система топливного питания и аппаратура управления. Вы можете меня спросить, а где же двигатель? Отвечаю. Звездообразный, плоской конструкции двигатель внутреннего сгорания, выполненный совместно с дифференциалом, обеспечивающим вращение лопастей в противоположных направлениях, установлен горизонтально, на горизонтальных распорках, внутри отверстия, между лопастями винтов, насаженных на выходные, вертикальные валы двигателя. Лопасти винтов, сжимая между собой воздух, обеспечивают мощное поступление воздуха в камеры сгорания поршневых групп двигателя и надёжное охлаждение его корпуса.
– А это что у тебя на крыле? – поинтересовался Малышев, осторожно дотрагиваясь пальцами до каких-то небольших плоскостей.
– Это аэродинамические рули, – пояснил Сапожков.
Он взял ручку для запуска двигателя, вставил её в крохотное отверстие верхней полусферы и крутанул. Мотор пронзительно зажужжал, упираясь децибелами в перепонки ушных раковин. Одной рукой придавив к полу аппарат, а другой, показывая друзьям, чтобы они отошли в сторонку, он, отпустив его, и сам присоединился к ребятам. Дископлан стал медленно подниматься вверх по расширяющейся спирально-винтовой траектории. Достигнув двухметровой высоты, он начал медленно кружить по воздуху, описывая одну окружность за другой. Спустя некоторое время, поймав дископлан на лету за кольцевую опору и на весу заглушив двигатель, Сапожков водворил его на прежнее место.
Ребята переходили от одной секции полок к другой, на которых красовались любовно доведённые до блеска и изящества модели летательных аппаратов различных конструкций. Митя охотно давал друзьям пояснения, если им было что-то непонятно. Посетители приметили, что в любой конструкции модели, даже давно уже известной, создатель стремился к максимальной рационализации и новизне. Так, например, он показал им самолёт обычной винтомоторной группы, чем-то напоминавший ИЛ-2 военных лет, где выпуск передних шасси он сделал более полезным, связав их стойки с дополнительными подвижными плоскостями, увеличивающими общую площадь крыла при взлёте и посадке, и, убирающимися в тело фюзеляжа совместно с шасси на марше. Это позволило уменьшить взлётную и посадочную скорости. Кроме того, по бокам фюзеляжа, ближе к его центру, были установлены две специальные аэродинамические плоскости, позволяющие самолёту отклоняться от курса в тот или иной бок таким образом, что продольная его ось при этом перемещалась параллельно направлению движения аппарата. Это нововведение давало возможность, по Митькиным словам, увернуться, уйти в сторону от преследования самолётом противника или ракетой, а затем, резко сбавив скорость, оказаться у них в хвосте.
Кроме прочих моделей летательных аппаратов ребята обнаружили на полках несколько диковинных конструкций, некоторые из которых Сапожков показал в действии. Одна из них смешно прыгала, как кузнечик, описывая в воздухе небольшие дуги, а друзья, смеясь, увёртывались от неё. Другая, похожая на черепаху, сначала медленно поползла, а потом, оторвавшись от пола на два-три сантиметра, начала быстрый и беспорядочный облёт помещения, пока не наткнулась на одну из стоек стеллажа, перевернувшись «вверх тормашками».
Очередную авиамодель Митя не смог показать в действии. Он только пояснил, что она предназначена для перемещения по водной поверхности по подобию движения речной гальки, когда, как говорится, бросая её, «пекут блины». Передвигаться она должна с большой скоростью волнообразными скачками, едва касаясь поверхности воды. Конструкция представляла собой двояковыпуклый диск, нижняя и верхняя половинки которого приводились во взаимно противоположное вращательное движение. Сверху диск как бы закрывался неподвижным, металлическим кожухом, повторяющим обводы форм верхней, подвижной половинки диска. Этот кожух имел центральное, глухое углубление для водителя, над которым, вдоль диаметра «блина», размещался прямоточный воздушно-реактивный двигатель.
– Вообще-то, двигатели подобного типа не способны развивать тяги, не пребывая во встречном воздушном потоке, – пояснил Митя, положив ладонь на корпус двигателя. – Этот недостаток пришлось устранить введением в выходное сопло цилиндрической трубы меньшего диаметра, крепящейся на распорках. Проходя сквозь сопло на некотором расстоянии от его стенок, она одним своим концом располагается примерно посередине корпуса камеры сгорания, а другим – выходит наружу далеко за пределы сопла. Благодаря этому, при запуске на земле, двигатель работает в пульсирующем режиме. При наборе определённой скорости труба выводится из камеры сгорания на уровень сопла передним своим концом. Двигатель начинает работать в прямоточном режиме. Поэтому правильно было бы назвать его – прямоточно-пульсирующий воздушно-реактивный двигатель.
Осмотр уже подходил к концу, когда ребята приметили какую-то странную модель, приютившуюся в самом дальнем углу нижней полки. Очертаниями своими она сильно смахивала на стрекозу, но только без хвоста.
– А это моя самая любимая штуковина, – промолвил Митя, бережно беря её в руки и любуясь ей. – Я её так и назвал – «Стрекоза-бесхвостка»: такое же туловище с лапками, четыре прозрачных крыла, по два с каждой стороны. Масштаб – пять к одному.
Митя предложил друзьям присесть, а сам, порывшись в одной из тумбочек, извлёк из неё какой-то небольшой, блестящий предмет и сунул его в карман. Затем он взял с полки «Стрекозу» и поставил её на пол в полутора-двух метрах от наблюдателей. Усевшись напротив них на пол в небольшом удалении от модели, и приняв позу факира со скрещенными ногами, он вынул из кармана губную гармошку.
Ребята с нетерпением, в неподдельном изумлении глазели на своего товарища и его непонятные действия. А тот, неторопливо облизав губы, будто испытывая долготерпение терзаемых любопытством зрителей, приложил их к гармошке и заиграл. Комнату заполнили звуки вальса Штрауса из «Сказок Венского леса». «Стрекоза», вдруг ожив по каким-то непонятным причинам, встрепенулась всем корпусом и быстро стала набирать высоту, производя частые, колебательные движения своими крыльями, которые слились в единое, прозрачное целое. Она послушно вальсировала под музыку, то неподвижно зависая на одном месте, то, вдруг, проваливаясь вниз, то взмывая вверх, кружа по двухметровому диаметру и обдавая друзей лёгким, призрачным ветерком, когда пролетала почти рядом с ними.
Завороженными взорами созерцали ребята необычайную картину, внутренне уносясь в какое-то эфирное, неосязаемое пространство, в котором существовали лишь великая музыка и неукротимая человеческая мысль, облачённая в фантастические, сказочные образы живой природы. Звуки музыки постепенно стихали, предвещая скорое завершение музыкального произведения. Словно повинуясь воле своего создателя и повелителя, «Стрекоза» в своём кружении, всё ещё вальсируя, медленно опускалась вниз. И когда был взят последний аккорд, она плавно приземлилась по правую Митькину руку и, вздрогнув, застыла на месте.
Остапенко с Малышевым, словно загипнотизированные, пребывали в позах каменных истуканов, вперив взоры в предмет своего интереса. Рты их были широко раскрыты, изумлённо округлившиеся глаза затуманены и задумчивы до такой степени, что Кузя, подавшись невольно всем корпусом вперёд в момент посадки «Стрекозы», нарушил собственное равновесие и брякнулся вместе с табуреткой на пол, увлекая за собой какую-то металлическую трубу, стоявшую рядом, за которую при падении инстинктивно ухватился, в попытке сохранить равновесие. Очутившись на четырёх опорах, Малышев какое-то время так и оставался в чрезвычайно нелепом положении, не отрывая взгляда от диковинки и наклонив голову, словно пытался разглядеть конструкцию с её нижней части.
– Кузя! Ты чего это? – воскликнул недоумевающий Сапожков. – Музыкальная кода прозвучала вовсе не для тебя… Ну даё-ё-ёшь!
– Сапожков, ты – гений техники! – с трудом переводя дыхание, прошептал Малышев.
Раздался дружный смех и наступила общая разрядка: нервное напряжение, казалось, было снято.
– Вы не очень-то удивляйтесь. Ничего такого особого в этой конструкции нет, – сказал Митя, поднимаясь с пола и подхватывая модель. – В ней использованы давно всем известные законы акустики. Правда, повозиться с ней пришлось долго, работа чрезвычайно тонкая и деликатная, я бы сказал даже – ювелирная. Попробуйте её на вес.
Ребята, воспользовавшись предложением друга, поочерёдно убедились, что модель, при всех её, казалось бы, внушительных габаритах, весила не более пяти граммов.
– А как же двигатель? – спросил изумлённый Саня. – Что-то его не видать.
– И не увидишь! – успокоил того Сапожков. – Он внутри «Стрекозы» упрятан. Чтобы его увидеть, надо полностью разобрать модель, а у меня там всё до долей граммов и миллиметров сбалансировано и отрегулировано. Так что я вам лучше все на словах поясню. Лады?
– Лады!
– Двигатель работает по принципу акустического резонанса, – продолжал Сапожков. – То есть – это резонансный, акустический двигатель. Он представляет собой двенадцать цилиндрических резонаторов в пределах звучания одной октавы. Каждый резонатор снабжён мембраной. К каждой мембране, в свою очередь, жёстко прикреплено по одной вертикальной тяге. Эти тяги через подвижную систему рычагов крепятся к внутренним силовым рычагам крыльев. Каждый из резонаторов реагирует только на определённый звук октавы, совпадающий с его собственной резонансной частотой. В данном случае, мембрана этого резонатора приходит в колебательное движение, передавая его на крылья через их силовые рычаги. При этом, если передние крылья опускаются вниз, то задние – поднимаются вверх, и наоборот. Если взять аккорд, то в действие приходят сразу несколько резонаторов и мощность двигателя возрастает. То же самое получается, если увеличить силу звучания какой-либо одной ноты. Траектория движения каждого крыла имеет форму восьмёрки. Это обеспечивается специальной конструкцией самого крыла и подвижной системы рычагов.
– Ну и уморил же ты нас, любезный! – облегчённо вздохнул Саня. – Дай хоть малость дух перевести.
Но Митька, при всей кажущейся своей простоте, был малый, как говорится – «сам себе на уме», разумеется, в лучшем смысле этого слова. Он и не думал предоставлять друзьям передышки, пытаясь взять их на измор и заодно проверить на выносливость. Он водрузил «Стрекозу» на место, гармошку спрятал в тумбочку и, улыбаясь, подошёл к своим товарищам. Глаза их блестели, щёки и уши отливали ярким румянцем. Этот незначительный факт не ускользнул от наблюдательного Митькиного взгляда. Сам он пребывал на «седьмом небе» от счастья и гордости, сделав, по выражению лиц друзей, важное для себя открытие: всё, о чём думал и успел сделать он, не напрасно и способно даже вызвать восторг и восхищение.
– А знаешь, за что ты ухватился, когда падал? – спросил он, обращаясь к Малышеву.
– Э-э! – выдавил тот из себя.
– За «Кенгуру».
– За какого ещё такого кенгуру?
– Ну, это я такой спортивный снаряд придумал для укрепления мышц ног и улучшения чувства пространственной ориентации. Я его так и назвал – «Кенгуру». – Митя взял прислонённую к стене конструкцию. – Устроен он очень просто и состоит из двух тонкостенных труб разных диаметров. Верхняя труба подвижно насажена на нижнюю, а внутри они подпружинены между собой мощной пружиной. Чтобы они не выскакивали друг из друга, то пришлось их зафиксировать в исходном разжатом положении. Верхняя труба на обеих своих концах имеет две горизонтальные перекладины: одну, нижнюю – для ступней ног, а другую, верхнюю – для рук. Вот, смотрите.
Сапожков установил конструкцию в вертикальное положение и, ухватившись руками за верхнюю перекладину, быстро вскочил обеими ногами на нижнюю и мелко запрыгал вместе с конструкцией вокруг друзей, то всем корпусом слегка приседая, то распрямляясь и отталкиваясь вверх. Направление движения он регулировал изменением положения корпуса всего тела.
– Дай попробовать, Мить! – попросил Саня.
Однако, сделав несколько небольших прыжков, он потерял равновесие и чуть не упал, вовремя соскочив с подножки. То же самое попытался проделать и Малышев, но те же результаты не замедлили сказаться.
– Ну, во-первых, стартовая пружина здесь очень мощная. Я её установил, исходя из собственного веса. А для ваших комплекций она жестковата, – попытался успокоить Митя слегка приунывших и расстроенных друзей. – А во-вторых, надо сначала немного потренироваться, чтобы выработать устойчивость.
Покрутив во все стороны головой, словно оценивая квадратуру площади помещения, он добавил:
– Да-а-а, здесь особо-то не разгонишься. Айда на улицу, покажу, на что способен мой «Кенгуру».
– Пошли! – разом откликнулись друзья, спешно направляясь к двери.
– Куда вы так разогнались? – поспешил остановить их Митя. – А одеваться за вас я что ли буду? Холодно же на дворе. Шапки-то хоть напяльте на головы, да фуфайки, что висят при самом входе, накиньте на себя. А я халат рабочий надену.
9. Жертва несчастного случая.
Когда друзья вышли из мастерской на свежий воздух, на них смешно было смотреть: две неуклюжие фигуры с нахлобученными шапками, почти с головой утопавшие в Митькином одеянии, выплывали, словно гномики, из тёмного подземелья, а следом за ними вырастал из-под земли циклоп со своим детищем наизготовку, как на параде.
Синь предзакатного неба, окрашенная в оттенки багряных тонов, была иссечена тонкими, трепещущими линиями солнечных лучей, лениво ложившихся на землю и окутанные шубой инея мёрзлые ветки кустов и деревьев. Мороз крепчал. Дышалось легко и свободно, словно воздух был пропитан чудодейственной, живительной силой планеты, на которой стояли трое подростков, пытаясь постичь её тайны и заглянуть в будущее.
– Давай, показывай уже, – нарушил молчание Саня.
– Это мы раз-два. – Сапожков лихо вскочил на нижнюю перекладину и поскакал вдоль задней стенки забора, постепенно наращивая скорость и увеличивая длину прыжков.
– Это ещё не на полную силу, – прокричал Сапожков дребезжащим, прерывистым голосом, сделав первый круг и проскакивая мимо глазевших на него ребят.
Он стал с равномерной скоростью обскакивать второй круг, делая прыжки длиной не менее двух с половиной метров полуметровой высоты.
– Ещё один раз, – проблеял он, заходя на третий круг и нарушая тишину скрипом пружины и резкими щелчками «Кенгуру» в конце его распружинивания.
Но этому не суждено было сбыться. Митька и не подозревал, какую гримасу скорчит ему судьба. Привлечённая голосом хозяина и, какими-то посторонними, новыми для её слуха звуками, из-за угла дома вынырнула Альфа. Сапожков уже приближался к финишу, когда собака нагнала его и, играючи, стала хватать за ноги. Почувствовав это, он непроизвольно, как говорится, «поднажал на газ», пытаясь уйти от преследования и тем самым не расквасить себе нос. Но Альфа не отставала и ещё пуще, с лаем, старалась уцепиться за штанины своего хозяина. Тот невольно наращивал скорость, длину и высоту прыжков. Ему уже тяжело было брать повороты. В течение минуты он успел обскакать вместе с собакой пять или шесть кругов. Прыжки достигали уже пятиметровой длины, а высота их доходила до одного-полутора метров.
Положение становилось критическим. Чтобы оторваться от преследования, Митьке надо было ещё увеличить скорость, чего не позволяла сделать ограниченность пространства в рамках забора. Уменьшить скорость он тоже был не в состоянии, так как мог быть сбит на ходу корпусом наседавшей сзади на него собаки. И в том, и в другом случае последствия обещали быть печальными для здоровья.
– Альфа1.. Альфа!.. – выходя из леденящего душу оцепенения, наперебой закричали Остапенко с Малышевым, бросаясь вслед за собакой и пытаясь отвлечь её на себя. Да куда там: та не обращала на них никакого внимания.
Сколько кругов сделал Сапожков, никто уже не подсчитывал. Если бы в этот момент за действиями друзей наблюдал совершенно посторонний человек, то его взору предстала бы до невероятности странная картина: здоровенный малый, с болтающимися во все стороны ушами зимней шапки и развивающимися на ветру полами халата, огромными прыжками скакал на задворках дома по большому кругу на какой-то палке, восседая на ней, словно Баба-Яга на помеле, торопясь на свидание с Кощеем-Бессмертным; следом, не отставая, мчалась огромная собака, пытавшаяся ухватить скачущего за штанину или полу халата; еле поспевая за ними, по малому кругу, сновали двое ребят, призывая собаку опомниться, от бессилия своего бросая в неё шапки и комья снега.
– Одно из двух – промелькнуло на какое-то мгновение в Митькином сознании, – или я разобьюсь вдребезги, и меня похоронят с музыкой, или же Альфа бросится под моего «Кенгуру» и я проткну её насквозь концом снаряда, или, попросту говоря, придавлю при падении.
И он решился на отчаянный шаг. Выйдя на очередной круг, и набрав максимальную скорость, оставив при этом собаку далеко позади, Сапожков по прямой помчался в сторону полутораметрового забора, смотревшего на большой пустырь. В конце последнего прыжка Митька, что было мочи, спружинил свой аппарат, а затем изо всех сил оттолкнувшись им от земли, взмыл высоко над забором, успев в последний момент оттолкнуть «Кенгуру» в сторону, который, недовольно поскрипывая пружиной, перевернулся в воздухе несколько раз, гулко лязгнул о нижнюю перекладину забора и затих, утонув в снегу.
Великолепную дугу Сапожков описывал молча, с растопыренными конечностями, на манер Волка из мультика «Ну, погоди!»
– … Ой!.. – дико взвизгнула какая-то невысокая, упитанная тётка, проходившая в это время по протоптанной невдалеке от забора тропинке, и испуганно шарахнулась в сторону, выронив от неожиданности из рук две полные продовольственные сумки. Раздался приглушённый звук битого стекла.
Митьке жутко повезло: угодил он прямо в огромный сугроб, метрах в четырёх от забора, по другую сторону тропинки, пропахав в нём и за его пределами длинную взлётно-посадочную полосу.
– Господи Иесуси!.. Сохрани и помилуй!.. – быстро и мелко перекрестилась женщина, вытаращив глаза. – Ты откуда?!..
Поднявшись с земли, отряхиваясь, и ещё не успев овладеть даром речи, Сапожков неуверенно повёл головой из стороны в сторону и возвёл глаза к небу, будто воздавая ему должное за то, что остался цел и невредим.
– Врё-ё-ёшь! – чуть ли не шёпотом пролепетала тётка, по-своему истолковав непроизвольное Митькино движение.
– Это вы о чём, тётенька? – спросил он её, всё ещё стряхивая с себя снег и поднимая с земли шапку.
– Как – о чём? Ну, … что ты… оттуда! – Она в нерешительности ткнула пальцем в область небесной сферы.
– А-а-а, – промямлил Митя, до которого, по-видимому, ещё не полностью доходил смысл слов собеседницы. – Вот вы о чём!.. Только учтите, я никогда, никому не вру! И, коли я «оттуда», – Сапожков вновь возвёл глаза к небу, – то по всем правилам должен величаться на ВЫ.
Какое-то время они молча стояли друг против друга, не решаясь продолжить разговор. Но тут женщина, вдруг прищурив глаза, наклонила голову и пристально стала вглядываться в Митькино лицо.
– Постой, постой, голубь!.. А вот и врёшь! – нараспев, уже ровным, каким-то тягучим, въедливым голосом произнесла она. – Да ты, никак, из Сапожковых будешь, а?
– Так-с точно, из них!
– Уф-ф, – облегчённо вздохнула она, вытирая рукавом полушубка выступивший на лбу пот. – До смерти перепугал старуху, шалопай проклятый.
Однако, подобревшее было тёткино лицо, вдруг приобрело озабоченный вид. Поведя несколько раз носом и потянув ноздрями воздух, она бросилась к своей поклаже.
– Люди добрые!.. Да что же это такое творится на белом свете? – громкогласно и слёзно запричитала она речитативом, извлекая из сумки, за горлышко, пятилитровую бутыль с отколотым дном. – И куда только родители смотрят? Ах паразит, ах басурман ты поганый! Чтоб гореть тебе синим пламенем и не сгореть! – верещала она в сторону Сапожкова, потрясая в воздухе битой тарой.
Она быстро выпотрошила вторую сумку, извлекая из её недр такую же, но целёхонькую бутыль с прозрачной, как слеза, жидкостью, игравшей и переливавшейся в лучах заходящего солнца всеми цветами радуги.
– Тётенька, давайте помогу, – подходя к ней, предложил свои услуги Сапожков, но, учуяв резкий запах самогона, остановился.
– Пропади, сгинь отседова, чтоб глаза мои тебя больше не видели, окаянный! – не унималась она, держа в руках драгоценную ношу и прижимая её к груди.
– Мить!.. Ну ты как?.. – послышались со стороны забора встревоженные ребячьи голоса.
Потерпевшая испуганно посмотрела в ту сторону.
– Твои что ли? – живо поинтересовалась тётка, переводя взгляд на Митьку.
– Товарищи!
– Ну что зенки-то вылупили, това-а-арищи? – огрызнулась она в сторону ребят. – Над старой женщиной потешаетесь? У-у-у!..
– Да мы, тётенька, ничего…
В это самое мгновение тётка заприметила Альфу, спешившую по тропинке к своему хозяину, радостно повиливая хвостом. Подбежав к месту происшествия и учуяв резкий, непривычный запах, она осклабилась и басовито зарычала: Альфа страх как не выносила запаха спиртного. Пальцы тёткиных рук непроизвольно разжались и… Собака ошалело отскочила в сторону и залилась неистовым лаем, опережая звуки лопающегося сосуда.
– Десять литров, … коту под хвост.., – отрешённо, про себя, прошептала тётка и, придя в себя через некоторый промежуток времени, уже твёрдым, решительным голосом сказала, обращаясь к Сапожкову:
– Ну чего ты всё время щеришься, ирод?.. Утихомирь свою тварь подлую и скажи пожалуйста, что мне теперь делать?
– Есть, есть один выход, тётенька! – немного поразмыслив, ответил Митя.
– Да ну?! – воскликнула она. В глазах её затеплились огоньки надежды. – Какой?
– Пойти в милицию и добровольно сдаться местным властям!
– Та-а-ак, значит, издеваться? Ну ладно, – злобно прошипела тётка, подбирая с земли неоспоримые улики и укладывая их в сумки. – Погодите же, ох как ещё отольются вам мои слёзоньки-то, дайте только срок.
И жертва несчастного случая вперевалку заковыляла в обратном направлении. Митька её узнал с первого взгляда: это была тётка Марфа-самогонщица, жившая на хуторе у самого леса. Дом её пользовался худой славой…
– Что у вас там ещё за шум? – стоя на пороге дома, спросила Любовь Матвеевна вошедшего в калитку сына.
– Да так, играемся.
Мать внимательно посмотрела на него, но уточнять не стала.
– Мы тут с отцом к соседям собрались, ненадолго, – предупредила она. – Захотите есть, еда стоит на столе. И не задерживайтесь особо, а то всё остынет.
– Хорошо, мам! – пообещал сын и направился к друзьям.
Ребята, раскрасневшиеся от мороза и всего ими пережитого, с нетерпением ожидали того за углом дома.
– Сильно ушибся, Мить? – сочувственно спросил Саня, держа в руках «Кенгуру».
– Бог миловал: ни единой царапины!
– Повезло-о-о!
– Здорово у тебя всё это получилось, на максимальных режимах, – подал свой голос Кузя. – Ну-у, думаю, всё – хана, финал всему, погиб смертью храбрых.
Сгрудившись в кучу и пританцовывая на одном месте, друзья торопливо, наперебой обменивались полученными впечатлениями по поводу произошедшего события.
Верхняя половина солнечного диска, чётко ограниченная линией горизонта, одаривала природу своими последними, эфемерными лучами, призывая всё живое следовать её примеру. Проникая в лёгкие, морозный воздух захватывал дух и сковывал движения.
– Это же вездеход какой-то, твой «Кенгуру»! – тараторил Кузя, пытаясь расширить область применения конструкции. – Представляете, как он будет незаменим, ну, например, для доставки почты в сельскую глубинку?
– Чего уж там! – отозвался Сапожков. – Представляю почтальона, который скачет семимильными прыжками с развевающейся на ремне сумкой по сугробам заснеженного поля или по раскисшему весенне-осеннему бездорожью…
– Или колхозного бригадира, – с серьёзным видом добавил Саня, – мчащегося на полевой стан к своей передовой бригаде.
Ребята весело рассмеялись.
– Пойдём ещё что-то покажу, – уже как ни в чём ни бывало, предложил Сапожков друзьям, направляясь в сторону мастерской.
10. Наше вам здрасьте!
Отряхнувшись, сняв с себя одежды и потирая озябшие руки, оставив в покое «Кенгуру», ребята поспешно проследовали за Митей. Он провёл их почти в самый конец тёмного коридора и открыл крайнюю дверь перегородки, пропуская гостей вперёд и щёлкая включателем. Ребята очутились в большом, ярко освещённом помещении, посреди которого стоял какой-то летательный аппарат.
– Ух ты! – вырвалось невольно из Кузиной груди.
– А это ещё что такое? – удивлённо спросил Саня.
– Это – махокрыл, – не без гордости ответил Митя, – собственной конструкции, один к одному. Мы его с батей целый год строили.
– А чего – махокрыл, а не махолёт? – спросил Остапенко, применив бытующий термин названия аппаратов подобной конструкции.
– Для тебя может и махолёт, а по мне, так – махокрыл.
– Усёк! – улыбнулся Саня. – Пардон! Сказал, не подумав.
– И летает? – поинтересовался Кузя.
– Ещё не пробовал. Но – должен, по всем расчётам должен.
– А ну, проедься хоть немного, – попросил Малышев.
Длина комнаты позволяла выполнить его желание. Отрулив аппарат вручную в самый конец помещения, Сапожков взгромоздился на него – в мотоциклетное сиденье, – ухватился за какие-то рычаги, выступавшие снизу, и закрутил велосипедными педалями. Два крыла, расположенные над ним, пришли в колебательное, машущее движение. Конструкция медленно, но уверенно тронулась с места и, проехав метра четыре, чуть ли не уткнувшись в противоположную стенку, остановилась.
– Устроен и работает махокрыл очень даже просто, – начал на ходу свои пояснения Сапожков, водворяя аппарат на прежнее место в центре помещения. – А весь секрет заключается в одной маленькой особенности конструкции крыльев. Аппарат состоит из шестиметровой – в длину – металлической, треугольной в поперечном сечении фермы с основанием внизу и вершиной наверху. Ферма эта сужается к своему концу, на котором установлены горизонтальное и вертикальное оперения с рулями высоты и поворота, как и у обычного самолёта. Спереди ферма опирается на два больших велосипедных колеса, а сзади – на одно, маленькое, от детского велосипеда.
Два несущих крыла – по шесть метров в длину и одному метру в ширину каждое, – установлены над сиденьем пилота, одно за другим, на расстоянии в полметра друг от друга. Каждое из них строго посредине укреплено в подшипниках качения на общей верхней, продольной, несущей трубе и имеет возможность совершать машущие колебательные движения от ножного, педального привода через цепную передачу и через тяги, шарнирно связанные с каждым из четырёх полукрыльев.
Если левая половина переднего крыла опускается вниз, то правая, соответственно, поднимается вверх. В то же самое время, левая половина заднего крыла поднимается вверх, а правая – опускается вниз. Таким образом, крыльям придаются взаимно противоположные колебательные движения, обеспечивающие аппарату машущий режим полёта…
– Это всё понятно, как Божий день, – перебил Остапенко. – Крылья махать будут, мы сами убедились в этом. Но за счёт чего махокрыл движется вперёд?
– А я как раз и подхожу к этому. – Сапожков взялся за заднюю кромку переднего крыла. – Задняя кромка каждого полукрыла – на ширине трёхсот миллиметров по всей его длине, – выполнена из мягкого и, в то же самое время, упругого, эластичного материала. Когда какое-либо полукрыло опускается вниз, то его задняя кромка изгибается вверх. Если оно поднимается вверх, то она изгибается вниз. Но, независимо от того, изгибается ли задняя кромка вверх или вниз, в любом случае она создаёт горизонтальную составляющую силу, направленную в одну и ту же сторону и толкающую махокрыл вперёд.
Митя, для пущей убедительности, ещё раз продемонстрировал машущие движения крыльями, попросив друзей попридержать аппарат в средней его части. И действительно, задние кромки крыльев изгибались то вверх, то вниз, обдувая друзей упругими, прохладными струями воздуха.
– Когда, при разбеге, махокрыл достигает скорости около двадцати километров в час, – Митя освободил пилотское место и вновь подошёл к своим слушателям, – то можно отрываться от земли и набирать высоту. Подъёмная сила обеспечивается обычным аэродинамическим профилем жёсткой части крыла.
Друзья молча слушали Сапожкова, с каким-то благоговением поглядывая на своего товарища, великого изобретателя-самоучку, о котором когда-нибудь услышит и заговорит весь мир. В головах от всего увиденного и услышанного царил полнейший сумбур и невероятная сумятица. Но Митька настойчиво, методично «добивал свою добычу».
– Ну, и последнее, что хотелось бы вам показать, так это персональный, ракетный летательный аппарат, – сходу ошарашил Сапожков своих благодарных слушателей.
Он подвёл их к какому-то уж очень низкому кожаному креслу с общим упором для ног. Оно было установлено в самом дальнем углу комнаты. От середины подлокотников вверх шли две трубы. Наверху они были жёстко соединены между собой третьей, поперечно-горизонтальной трубой с гораздо большим диаметром, раза в три-четыре. Оба конца этой трубы заканчивались раструбами, от которых шли какие-то тяги к двум рычагам кресла, установленным впереди сиденья.
– Садимся в кресло, – выдал Сапожков. – Видите? Сел! – Слова свои он старался сопровождать наглядными действиями, решив, по-видимому, что подобное сочетание не особо-то утомит друзей. – Ставлю ноги на упор, облокачиваюсь на спинку, берусь за оба рычага управления и на левом нажимаю кнопку зажигания.
Друзья в напряжении чего-то ждали, полагая, что Сапожков вот-вот воспарит в подпотолочную высь.
– Воспламеняется твердотопливный заряд в камере сгорания – она надо мной, – он похлопал над своей головой ладонью по корпусу поперечно-горизонтальной трубы большого диаметра. – Из сопел, на противоположных концах трубы, с треском выбиваются заглушки и с гудением вырывается пламя реактивных струй. – Тут Митька заметил, как ребята невольно втянули головы в плечи.
– Да вы не бойтесь! – засмеялся он. – Просто представьте себе всё это мысленно, в своём воображении. В камере сгорания нет твёрдотопливной, пороховой шашки, не изобрёл ещё. Направление сил реактивных струй сопел – взаимно противоположное, в горизонтальной плоскости. Результирующая сила равна нулю, аппарат стоит на месте. Но вот этими рычагами начинаем изменять взаимное положение сопел, которые подвижно, шарнирно, соединены с корпусом камеры сгорания. Видите?, они пошли у меня вниз. Начинаем поднима-а-аться, поднима-а-аться… – Комментируя свои действия, Митька смешно растягивал свои слова и энергично ёрзал на одном месте. – А теперь нам надо лететь вперёд, для чего отжимаем от себя рычаги и сопла начинают слегка отклоняться назад. Набор высоты и скорости, торможение и посадка, и прочее, так же осуществляются с помощью изменения положения обеих сопел.
– А когда ты хочешь всё это испытывать? – поинтересовался Кузя, жестом руки обводя помещение.
– Когда времени свободного будет побольше. Летом, наверное.
– А как же ты вытащишь из мастерской свой махокрыл? – Остапенко вскинул на Сапожкова густые, чёрные брови.
– Очень просто, по частям, а на месте соберу: он у меня сборно-разборный. А вот с ним, – Митька указал в сторону реактивного аппарата, – придётся повременить. Ну, во-первых, надо создать такой твердотопливный заряд, чтобы он при небольших своих размерах, горел хотя бы минут пять с максимальным выделением энергии. Во-вторых, ещё не решён вопрос управления горением заряда. А то ведь как получается? Полетал одну минуту, приземлился, встал, говоришь с кем-нибудь, а двигатель знай себе работает до полного выгорания топлива. Неэкономично!
– Да-а-а, – в задумчивости протянул Малышев, – неэкономично… И откуда только ты такой взялся, Сапожков, ума не приложу. Нет, ты, всё-таки, гений технического прогресса, и не спорь!
Митька расплылся в добродушной улыбке: ему было очень лестно и весело на душе оттого, что он смог подарить своим друзьям столько необычных минут, а главное – не ударил лицом в грязь.
– Знаете что? – Сапожков задумчиво переминался с ноги на ногу. – Вы тут побудьте уж без меня немного, а я отлучусь на пару минут. Хорошо?
– Давай, давай, поторапливайся, друг мой, – пошутил Малышев, мысленно проиграв свою версию Митькиной просьбы, – а не то опоздаешь.
Сапожков быстро вышел, хлопнув где-то в отдалении раза два дверьми, и всё стихло. Ребята молча слонялись по освещённому помещению, трогали и ощупывали различные части конструкций аппаратов, то нагибаясь, то привставая на цыпочки, заглядывали в их труднодоступные места.
Посидев поочерёдно в кресле реактивного летательного аппарата, подвигав рычагами управления и убедившись в справедливости Митькиных слов, они перешли к махокрылу. Усевшись на его сиденье, Малышев стал манипулировать рукоятками привода рулей высоты, крена и разворота. Их плоскости повиновались ему без больших на то усилий. Кузя закрутил педалями ножного привода машущих крыльев. На Остапенко повеяло прерывистыми, упругими струями воздуха. Махокрыл тронулся с места. Но Саня тут же остановил его движение, ухватившись за Кузино плечо.
– Хватит, хватит, раскатался, – сделал он внушение не в меру распоясавшемуся испытателю, – хорошего понемногу. Дай и мне попробовать.
Они поменялись ролями: теперь Саня двигал рычагами и крутил педали, а Кузя придерживал махокрыл на месте.
– Здорово всё-таки! – доверительно произнёс Саня. – Представляешь? Летишь высоко-высоко, крутишь себе педалями, легко и свободно, как на обычном велосипеде. Вокруг тебя – тишина-а-а. Небо синее, солнышко, птицы разные там с тобой наперегонки соревнуются. Внизу – дома и люди такие маленькие-маленькие…
– … и весь наш класс, – не дал договорить Кузя, – пребывая во чистом поле, из-под руки любуется машущим полётом отважного воздухоплавателя Александра Остапенко. Торжественные звуки оркестра, ликующие возгласы, девчонки визжат от восторга и удивления, бросают в воздух чепчики, а ребята от радости, с чувством мужского достоинства, энергично жмут друг другу руки, тайком утирая невольно скатившуюся скупую мужскую слезу удовлетворения…
– Слушай, я же серьёзно! – прервал Саня.
– И я тоже – серьёзно, – вторил ему Малышев. – Пора и честь знать, производи посадку и…
Не успел Кузя докончить фразы, как дверь вдруг с шумом распахнулась и на пороге выросла странная фигура, от вида которой друзья невольно вздрогнули и почувствовали, как по всему телу поползли мурашки. Перед их обескураженными взорами предстал громила, в прямом смысле этого слова, со смуглым, немытым, иссечённым жуткими шрамами лицом, заросшим густой, непролазной щетиной. Волосы его, цвета смолы, были ужасно растрёпаны и торчали во все стороны космами. Из-под распахнутого овчинного полушубка виднелась расписная косоворотка, навыпуск, до половины закрывавшая ватные штаны, заправленные а кирзовые сапоги. Рука его сжимала рукоятку длинного хлыста.
– Бандит! – промелькнуло лихорадочно в сознании каждого из присутствующих.
– Вы как сюда попали? – прохрипел амбал надтреснутым, пропитым голосом, сверля лица друзей иступлённым, больным взором горящих глаз. – Ну! Отвечать, когда спрашивают! – рявкнул он.
– Да мы, дяденька, к Мите, – робко вымолвил Малышев. – Это его мастерская…
– Какому Мите? Этому сукиному сыну, прохвосту? – вытаращил глаза страшный незнакомец. – Я здесь день и ночь тружусь, творю, а он плоды чужой деятельности вздумал себе присваивать? – гнев этого человека был неподделен и страшен. – Ну хорошо, я ещё с ним разберусь! А вы живо выметайтесь и улепётывайте отсюда подобру-поздорову, пока целы. Чтобы духу вашего здесь больше не было. Митина мастерска-а-ая, – передразнил он.
Ошарашенные, плохо что соображающие ребята стояли в нерешительности, не в состоянии сдвинуться с места.
– Неужели Митька обманул?! – невольно пронеслось в Санином сознании. – Неужели он привёл нас в чужую мастерскую? Зачем? – Тут ему вспомнились слова Митиной мамы о том, что сын её не прочь и приврать иной раз. Но всё, что сейчас произошло, противоречило законам дружбы и не укладывалось ни в какие рамки этого понятия. Все прелести так хорошо проведённого дня сразу как-то поблекли и потеряли свою привлекательность.
– Кому говорят? – прохрипел детина. – Умыливайте отседова, да поскорей, не то.., – он поднял хлыст и потряс им в воздухе.
Растерянные и вконец расстроенные ребята, понуро опустив головы, направились к выходу, подгоняемые угрозами и ругательствами.
– Да одёжку-то свою не забудьте прихватить, – промычал дядька, указывая кулаком левой руки в сторону вешалки.
Мельком узрев этот жест, Саня вдруг остолбенел от неожиданности, не в силах ещё поверить промелькнувшей молнией в его сознании догадке: в указующем кулаке этого варвара был зажат большой палец. Взяв себя в руки и решив проверить правильность своего предположения, Остапенко опустился по лестнице назад и, вместо того, чтобы проследовать к вешалке, со строптивым видом уселся на последнюю ступеньку.
– Никуда мы не уйдём отсюда, дя-я-ядя!
– Что-о-о? – бешено возопил тот, надвигаясь на непокорного всем грузным туловищем и зловеще заслоняя собой свет. – Да я тебя…
– А может я всё-таки ошибся? – отрешённо, с горечью в душе, подумалось Сане. – Тогда всё – ла финита! – Однако, не показав вида и набравшись храбрости, он произнёс: – А ничего!.. Что слышал! Брось дурачиться, Митька…
– Эх ты! – округлились глаза незнакомца. – А как ты догадался?
– Военная тайна! – обиженным голосом пробурчал Остапенко, сидя на ступеньке.
– Ну надо же так пролететь! Не получилось! – Отбросив с досады хлыст в сторону, Сапожков сорвался с места, метнулся к спортивной «колбасе» и, высоко подпрыгнув, нанёс ей молниеносный, всесокрушающий удар. – И-и-йя!..
Раздался резкий, словно выстрел, хлопок, а за ним – треск. Послышался звук рвущейся материи. Нижняя часть «колбасы», отсоединившись от верхней, повисла и заболталась на жиденькой матерчатой перемычке. Из верхней её части на спортивный мат гулко плюхнулась куча песка. Не выдержав перегрузки, перемычка лопнула и туда же последовала нижняя половина «колбасы». Никто, даже Сапожков, не ожидал удара такой силы.
– Да-а-а, – озадаченно протянул он, почёсывая затылок. – Ладно, завтра отремонтирую.
– Таким ударом он, пожалуй, и слона смог бы завалить, – с трепетным восхищением подумал Саня.
Друзья не знали, то ли обижаться на Митькину выходку, то ли радоваться его удивительным способностям к полному перевоплощению. Второе, плюс любопытство, взяли верх.
– Ну прямо – арти-и-ист! – выдавил из себя Малышев, когда Митька стянул с себя парик, выполненный заодно с маской. – Дай хоть посмотреть.
Друзья нередко посещали городской драмтеатр, видели игру хороших и не очень хороших артистов. Но чтобы обладать такими феноменальными способностями к полному изменению своей внешности, голоса, манер!.. Увольте!.. Подобного они ещё не встречали на своём коротком, жизненном веку.
Сапожков показал ребятам свою гримёрную, если можно было так назвать небольшую тумбочку в уголке авиамодельной мастерской, всякие принадлежности, с десяток мастерски выполненных париков с масками, вкратце пояснил технику гримирования.
– Всё, пора закругляться! – сказал, словно отрубил, Сапожков.
Решение было как нельзя кстати: избыток информации начал уже перехлёстывать все разумные рамки и критическую черту ребячьего рассудка; мысли уже не укладывались под сводами их черепных коробок и беспорядочно, хаотично витали в воздухе, натыкаясь друг на друга.
– Уф-ф-ф… – Малышев исступлённо потряс головой. – Котелок прямо раскалывается!
– А это всё потому, что мы так и не перекусили, – пояснил Митька. – А посему давайте-ка поторопимся, чтобы чертям тошно стало.
Оживлённые, переполненные сногсшибательными впечатлениями, смеясь и переговариваясь на ходу, ребята покинули мастерскую и направились к дому. Умывшись, приведя себя в порядок, они окружили стол.
– Та-ак… Что у нас здесь вкусненького? – забубнил себе под нос Митька, постукивая крышками кастрюль. – У-у, да почти всё остыло. Потерпите немного, сейчас подогрею.
– Знаешь что, Мить? Мы не очень-то проголодались, – попробовал вежливо отказаться Саня. – Нам домой пора, уже поздно.
Не обращая никакого внимания на предпринимаемые друзьями попытки отказаться от приглашения, Митька продолжал настойчиво и беспардонно шастать по кастрюлям.
– О-о-о! – радостно воскликнул он, открыв крышку очередной кастрюли, покоившейся на подоконнике. – Наше вам здрасьте, петушок-золотой гребешок!
– Это ты кому? – попытался уточнить Саня.
– А вот ему! – Митя поднял миску и показал друзьям её содержимое. – Петух у нас такой презлющий, вредный был – царство ему небесное, – на всех бросался. Батя ещё вчера грозился его зарезать, и вот он, как миленький. Ну что, хоть от этого не откажитесь?
– В общем-то, лично я, испытываю смешанные чувства в этом более чем гостеприимном доме, – как-то сразу потеплел и обмяк Остапенко.
– А я думаю, что в мой желудок неплохо бы вписалась петушиная лапка, – поспешил Малышев разделить чувства друга.
– То-то и оно! – наставително-поучительно произнёс Сапожков, разделывая петуха на три части и раскладывая их по тарелкам. – Правда он что-то не особо большим и жирным получился, ну, да ладно. Недаром таким нервным был, чертяка.
Одним махом расправившись с горластым забиякой, они, незаметно для самих себя, в пять минут, уничтожили почти половину всего того, что стояло на столе в давно уже остывшем виде…
Проводив друзей до трамвайной остановки и распрощавшись с ними, Митя воротился назад. Родители были уже дома. Любовь Матвеевна к этому времени успела прибрать со стола и мыла посуду.
– Сынок! – окликнула она его, когда тот, раздевшись, собирался было проследовать в свою комнату.
– Чего, мам?
– А где миска, что стояла на подоконнике?
– А-а, – протянул Митька, – с петухом что ли? Так мы его съели, а…
– Как – съели? – изменившись вдруг в лице и невольно втянув голову в плечи, полушёпотом переспросила она.
– Как, как! Очень просто! А что – жалко? Ведь друзья, ни кто-нибудь!
– Да я не о том… Какое там – жалко? – протестующе воскликнула она. – Лишь бы на здоровье!.. Ну и как?
– Что – ну и как? Во, мировой был петух! – подтвердил сын свои слова выразительным жестом поднятого вверх пальца…
На следующий день, поднявшись ни свет ни заря, и выйдя на двор покормить кур, Митька, к величайшему своему изумлению, увидел петуха, которого они вчера съели. Тот, как ни в чём ни бывало, важно ступая по снегу, не спеша, с достоинством, прохаживался между курами и подозрительно, косо поглядывал на Митьку.
– Мам, а мам! – срывающимся голосом позвал он свою мать.
– Чего тебе, сынок? – спросила та, выйдя на порог дома.
– А батя разве вчера не зарезал петуха?
– Да нет! Пусть ещё немного покукарекает.
– А что же мы тогда вчера съели?
– Ворону, Митюш, ворону, – после недолгого замешательства и раздумья как-то виновато призналась она.
– Как – ворону?
– Да так, ворону, и всё тут. Вчера утром Пушок её задрал, – кивнула она в сторону пушистого кота, лениво сидевшего возле ступенек крыльца и с мурлыканьем облизывающего свою лапу. – Задрал, а есть не стал, бросил. Так я подумала: «Дай общипаю, да сварю, глядишь – и съест её». Только ты уж, пожалуйста, не напоминай об этом своим товарищам… Хорошо?
Из Митькиной груди вырвалось нечто похожее на сдавленный стон, или – рыдание. В эту минуту ему стало как-то всё безразлично и тоскливо, а мир показался тесным и неуютным.