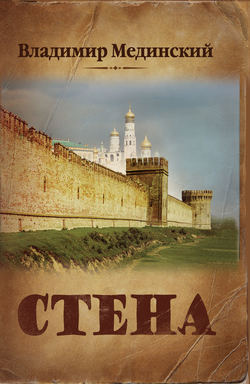Читать книгу Стена - Владимир Мединский - Страница 13
Отдѣлъ 3
Щит и меч (1609. Сентябрь)
Посадский голова (1609. Сентябрь)
Оглавление«А что же это я? Столько раз бывал в Смоленске, с воеводой встречался и в Москве, и здесь. Не раз с ним беседовал, а племянницу его вроде в первый раз сегодня увидал…»
С этой мыслью Григорий проснулся.
Странно, что первой была мысль об этой освещенной солнцем девушке, которая сразу и убежала, а не о той мучительной загадке с письмом англичанина, которую они, как ни бились, распутать не смогли. А может, и не странно…
Шеина Григорий действительно знал хорошо. Познакомился лет пять назад, когда Михаил, уже известный и заслуженный, несмотря на молодость, воин, служил в чине окольничего в Москве. В году тысяча шестьсот седьмом от Рождества Христова Шеин, показавший немалую отвагу в государевом походе[39], получил назначение воеводой в Смоленск. После Колдырев-младший успел не раз побывать в гостях у отца, ездил из Сущева в город и виделся с Михаилом. Тот бывал ему неизменно рад – что-то нравилось воеводе в щеголеватом молодом придворном, к тому же он глубоко уважал старика Колдырева.
О том, что у Михаила живет племянница, Гриша слыхал, и не раз. Но видеть ее и впрямь не видел – такую красавицу приметил бы уж наверняка.
Около постели он обнаружил сложенную на лавке свежую одежду. «Явно своим платьем воевода поделился», – думал Гриша, вдеваясь в новенькую синюю рубаху с расшитым воротом и рукавами, натягивая нарядные штаны и кафтан темного сукна. Плечи ему были широковаты, а кафтан длинен. Он привык следить за внешностью, а в последнее время что-то вся одежка ему доставалась великовата – то от безвестного польского десятника, то от московского боярина на смоленском воеводстве.
– А где воевода, служивый? – спросил Григорий, выходя из нижней горницы, у стрельца – из тех самых, что совсем недавно приволокли его скрученным прямиком к Шеину.
Стрелец легонько попятился, возможно, памятуя про возможность получить за обиды от недавнего пленника «в ухо», но гость явно был настроен дружелюбно.
– На стене, где же ему быть, – сообщил воин. – Михайло Борисович весь день крепость обходят. Сперва все подвалы да погреба проверяли, а ныне как раз на стены пошли. Говорили, закончат обход на Фроловской башне.
– Мне туда можно? – встрепенулся Григорий.
– А с чего ж нельзя? Раз у воеводы к тебе доверие.
Колдыреву повезло, что ему сразу указали, к какой именно из башен направился Шеин со своими помощниками, не то он мог бы долго блуждать вдоль стен красного кирпича.
Мальчишкой он не раз приезжал с отцом наблюдать за грандиозными работами. На строительство со всей страны сзывались каменщики, кирпичники, гончары; вокруг будущей крепости заработали кирпичные мастерские; камень и известь свозили в Смоленск отовсюду…
Деревянная, дубовая крепость в Смоленске существовала еще при Иване Грозном, но в тысяча пятьсот пятьдесят четвертом году сгорела дотла, и решено было возвести крепость каменную. Да какую! Дмитрий Станиславович с самого начала говорил, что это будет «всем твердыням твердыня»… Для создания крепости из столицы приехал главный московский зодчий Федор Конь[40]. И сделал все, дабы новая твердыня стала неприступной.
Основание стен уходило в землю на две сажени[41]. Вверх стены поднимались где на шесть, где на семь, а где и на девять саженей. Толщина же стен… Григорий сам не видел, но много раз слышал, что Годунов, принимая крепость, объехал всю крепость на тройке – поверху!
Тридцать восемь могучих башен, поровну круглых и четырехугольных, венчали стену длиною в шесть с половиной верст. Высочайшая из башен находилась над Фроловскими воротами, к которым вел мост через Днепр, и служила как бы парадным въездом в Московское царство. Была построена она по образу и подобию Фроловской башни Московского Кремля, получившей в народе название Спасской. Завершалась башня смотровой вышкой о четырех каменных столбах, прозванной смолянами «чердачком». И уж над ней в небе парил большой двуглавый орел.
Орел был черный, с позлащенными коронами, скипетром и державой. А сама крепость была красной и белой – по цветам кирпича и белого камня, из которых сложена. Кое-где прясла[42] и башни белили, добиваясь удачного сочетания двух цветов. Красива была крепость! После окончания строительства польским и литовским торговым людям запретили въезд в Россию кроме как через Смоленск. Смотрите, паны, удивляйтесь, запоминайте да рассказывайте потом – какова она, современная Россия.
Но все это видимое великолепие содержало в себе ряд совсем не бросавшихся в глаза вещей, которые, собственно, и делали твердыню неприступной. Вот, скажем, соотношение вышины, толщины и длины стен. Их вроде можно было б сделать и повыше. И зачем было огораживать красной стеной луга и овраги, которые по-прежнему занимали бо́льшую часть Смоленской крепости?
Вот только – сколько неприступных твердынь со славной историей и с уходящими в небеса отвесными стенами бездарно пали по всей Европе, когда вражеская артиллерия начинала бить по одному участку? Один пролом сразу рушил всю оборону, и пятачок внутри крепости немедленно заполнялся чужими солдатами. В Смоленске так быть не могло. Если бы врагу и удалось пробить осадными орудиями брешь, это, конечно, осложнило б положение осажденных, но роковых последствий бы не имело. Жолнеров и ландскнехтов у пролома встретят переброшенные сюда стрельцы, а со стен и башен врага на подходе будут все так же поливать ядрами и свинцом. Еще попробуй доберись через огненный вал до этой окутанной кирпичной пылью и пороховым дымом дыры. А проделать сразу несколько таких дыр – никакого пороху не хватит.
Высота стен в качестве главного преимущества обороняющихся уступала место их длине, старые европейские города ставили – у кого были деньги – новые стены вокруг старых, и Смоленск тут обгонял свое время. Построенный через сто лет после Московского Кремля, он имел протяженность стен в три раза большую.
Что же до толщины, то тут надобно идти… в глубину. Если бы Григорий не был свидетелем строительных работ, он бы и представить себе не мог, какое это сложное сооружение – смоленская Стена. Не стеночка кирпичная какая-нибудь! В котлован забивались дубовые сваи – а сперва рыли этот самый котлован. Дуб не гниет, напротив, с годами становится прочным, как металл. Выступающие части свай засыпали глиной, трамбовали, в получившуюся площадку забивали новые сваи, а поверх клали врубленные друг в друга бревна и засыпали получившиеся клети смесью земли и щебня. Дело долгое, трудоемкое, а ведь собственно стена – каменная кладка – еще и не начиналась!
Григорий, конечно, не знал этого тайного правила всех создателей крепостей, а вот государев горододелец Федор Савельевич Петров, прозванный в народе за силу и трудолюбие Конем, следовал ему неукоснительно: защищая других, защищай себя. Подкопаться под такую основу, конечно, можно – все возможно в этом свете, – но сделать это незаметно, неслышно… Нет, нельзя!
Дальше под землей шел фундамент из белого камня, составленный, как пирамиды, из больших блоков, и так же сужавшийся к верху. Низ стены тоже был белокаменный, а дальше шла кирпичная кладка. Точнее, две вертикальные – в несколько рядов кирпича – стенки, пространство между которыми заполнено осколками белого камня, булыжниками, битым кирпичом и каменными ядрами, залитыми известью. Все это называлось бутом и гасило удар пушечного ядра. Если бы из пушек удавалось разбить внешнюю кладку… А кирпич, в отличие от камня, крошится, забирая силу удара… Но если бы внешнюю кирпичную оболочку вражеские пушки и сумели пробить, то потом их ядра просто увязали бы в стене.
И это только снаружи она казалась устроенной просто. Снаружи была бело-красная вертикаль, увенчанная прямыми зубцами-мерлонами (на башнях, наоборот, красовались традиционные московские «ласточкины хвосты»), с двускатной крышей в две доски вдоль прясел. Изнутри же стена больше всего напоминала трехэтажный густо населенный дом. У каждой бойницы в толще кладки была выложена своя камера – место для затинщика, стрельца с тяжелой пищалью для стрельбы «из-за тына», или для пушкарей. На второй ярус вели приставные лестницы.
И все это огнестрельное хозяйство перекрывали арки – главный секрет великого мастера. Откуда крестьянский сын Федор Конь знал законы сопротивления материалов неведомо, но только арочные пролеты в стене устроил он вовсе не для красоты. Такая структура гасила пушечные удары еще лучше бутовой смеси.
Уже живя в Москве, Гриша часто слышал, как бывалые полководцы дивятся смоленскому чуду, называя крепость не только лучшей в России, но и в Европе тоже. Однако на все его вопросы касательно нужности столь циклопического сооружения – ведь не только же с этого направления России грозит опасность! – внятного ответа получить он не мог. Все отделывались рассуждениями о «главной опасности, исходящей именно с Запада», об «изменении характера современной войны» и тому подобными излишне мудреными для юного ума фразами… Но ответить внятно никто не смог. И Григорий спрашивать перестал.
Поднявшись на площадку Фроловской башни[43], Колдырев действительно застал там воеводу в окружении других воинских начальников. Всего там собралось не менее двадцати человек, но площадка была достаточно просторна.
– Что же, и не спал вовсе, Гриня? – хмуро приветствовал Шеин поднявшегося к нему гостя. – Присоединяйся, что ли… Ну что, Горчаков, и от Веселухи до Заалтарной у нас слабых мест нету?
– Чаю, что ни с какой стороны нет! – отозвался князь.
– Не скажи! Беспокоят меня восточные башни, вообще все это направление. Даром, что к Богу да к Москве всего ближе.
Никакого плана руководству смоленской обороны было не нужно: крепость лежала как на ладони.
– Там скрытно к стене можно подойти… В общем, князь, как мы ране говорили: особое внимание востоку. С этим закончили пока. Теперь ты, Безобразов. Роспись по пушкам. Поправил?
– Готово дело!
– Как у тебя все споро. Люблю. Проверять не стану, но что у нас теперь, например, на… – Шеин повернулся в противоположную сторону, к западу. – Вот, на круглой Богословской башне. Зачитай.
– Читать мне не надобно, я и так помню… – Безобразов протянул Шеину бумагу. – Проверяй. В подошвенном бою тюфяк двух пядей с торелью, к нему ядер каменных три ста, пушкарь к нему Ивашко Цуриков… В этом году одну дочь Иван замуж выдал, еще три осталось… В среднем бою две пищали затинных. Выше того, в другом среднем бою, пищаль девятипядная. В верхнем бою, в зубцах, две пищали московских полуторных, к ним три ста ядер.
Все эти слова много говорили для каждого из собравшихся на смотровой площадке, но не для Григория. Он отвлекся и теперь наблюдал за красивым, хотя и бессмысленным действом внутри крепости. Вероятно, там проходил смотр стрельцов.
В своих алых кафтанах, в полном вооружении, они выстроились на зеленом лугу в четыре ряда. Четверка стрельцов делали три шага вперед, втыкали бердыши древками-ратовищами в землю, и, используя их как упор, клали сверху пищали-ручницы. Потом слаженно все четверо подхватывали свое холодное и огнестрельное оружие и бегом возвращались меж рядов в конец строя. Их место уже занимала новая четверка, а строй делал два шага вперед.
Так продолжалось бесконечно. Когда одни стрельцы занимали свое место в конце ряда, другие бежали вдоль строя, а третьи впереди как раз управлялись с бердышами и пищалями.
По небу плыли цепи кучевых облаков, и по земле бежали полосы света и тени. Когда стрелецкий строй оказывался на солнце, то алые кафтаны начинали в нем просто гореть, а отделка ножен и лезвия бердышей – пускать во все стороны солнечные зайчики.
Понятно, что такие учения вызывали полный восторг у обитателей крепости, и колонна стрельцов была окружена полукольцом зрителей. Григорий подумал, что накануне встречи с неприятелем главную военную силу можно было бы занять чем-нибудь более полезным, чем этим странным спектаклем, напоминающим детскую игру в «ручеек». Впрочем, для поднятия духа у народа…
А Безобразов, ведавший, помимо всего прочего, пушечным хозяйством, наконец заканчивал:
– В том же верхнем бою пищаль двухсаженная Ругодивская, что взята с казенного двора от верхних пороховых погребов, весу в ядрах двенадцать гривенок. Там же три человека с ручницами.
Шеин расхаживал туда-сюда по площадке и кидал вопросы:
– Сколько ядер к пищали девятипядной?
– Тож три ста.
– А весу в ядре?
– В ядре четыре гривенки.
– Как зовут дочек Ивашки?
Безобразов недоуменно воззрился на Шеина:
– Старшую, кажется…
Взрыв здорового мужского хохота не дал услышать имя старшей дочери пушкаря. Безобразов, махнув рукой, охотно присоединился к товарищам. Причем заржал с такой нечеловеческой силой, что, казалось, башня закачалась.
– Снова повторю: будь за пушки покоен, воевода, – сказал он, отсмеявшись. – Все проверены, пристреляны, вычищены – ни одна не подведет. Все двести две наизготове.
По прошлой росписи было сто девяносто, ты помнишь, но третьего дня с посадского острога еще дюжину вывезли. Знаешь, Михайло Борисович, мне даже хочется поглядеть, как поляки будут вертеться на сковородке, которую мы для них раскалим…
– Поглядишь. Теперь последнее. Скажи-ка мне, Горчаков… – Шеин вдруг замялся. – Посадских оповестили, что всем в крепости быть надобно?
– Оповестили… – Горчаков смотрел не в глаза воеводе, а в сторону Смоленского посада, раскинувшегося на другом берегу Днепра. – Сказано было всем, что подожжем.
Григорий мысленно охнул. Уж не ослышался ли он? Шеин собирается поджечь посад?!
– И как народ это выслушал, Петр Иванович? – негромко спросил Шеин, глядя в сторону.
– Ну, как-как, – второй смоленский воевода лишь пожал плечами. Что он сам думает о грядущем поджоге, было непонятно. – Бабы ревут, конечно, но это уж им так Бог велел… Хуже с некоторыми мужиками.
– С какими?
– Из купечества сильно недовольны. Да не просто недовольны… Криком кричат! – Горчаков резко повернулся к Михаилу. – К чему, мол, дома жечь, добро изничтожать? Кто не захочет жить под ляхами, пускай, дескать, уходит в крепость!.. Нам же – ляхи так ляхи, лишь бы жить при своем кровном. Больше, конечно, готовы уйти, но терема чтоб не трогали. Мол, даст Бог, ляхов погонят, можно будет к себе вернуться.
– Это что ж, измена, Горчаков?! – с яростью воскликнул Шеин. – Это когда ж на Руси врагу города дарили? Они хоть понимают, что и крепость, и посад вместе нам не удержать? Понимают ли, что все едино придется пушками тот посад разбивать? Ежели поляк тут задержится, как можно ему дома для постоя и роздыха оставлять?!
Колдырев стиснул зубы: а ведь прав воевода. На сто кругов прав…
– Кто-то понимает, а кто-то и нет! – вместо Горчакова ответил Шеину один из стрелецких сотников. – Я вон тоже посадский. Жена, дитев семеро… Так моя Матрена слова худого не сказала, спросила лишь, можно ли с собой корову взять. А у кого мошна – тому смерть тошна… Более всех горланил посадский голова[44].
– Никита Зобов?
Шеин изумленно воззрился сперва на стрелецкого сотника, затем на Горчакова. Тот лишь сокрушенно кивнул.
– А что же Зобову-то неймется? – воскликнул Михаил. – Или у него богатств не хватит новый терем опосля отстроить?
Ни Горчаков, ни кто другой из соратников смоленского воеводы не успели ему ответить. Оттолкнув Григория, ставшего как раз возле выхода с лестницы, на верхнюю площадку башни вылетел краснолицый рыжебородый стрелец:
– Боярин-воевода! Посольство к тебе из посаду!
– Посольство-о? – резко обернулся Шеин.
– Посадский голова, купец Зобов, с ним двое других купцов… и еще народ какой-то. Всего полтора десятка. Шумят, требуют, чтобы ты к ним спустился.
– Помяни черта… А сами подняться не могут? Раздались больно – лестница им узка?
– Так говорят – у тебя тут и без них народу полно…
– Откуда знают? – Михаил подступил к стрельцу вплотную так, что тот попятился. – Кто им докладывал?
– Не ведаю, Михайло Борисович! Они, покуда сюда шли, со многими говорили.
Воевода перевел дыхание. Стоило немалого труда овладеть собой… однако овладел. С легкой усмешкой обернулся к соратникам, затем подмигнул стоявшему в стороне Григорию:
– Вот так вот, православные! Еще и война не началась, а уж людей теряем. Жадность бьет пострашнее пушек, – и добавил, поворотившись к рыжебородому стрельцу: – Спускайся да скажи Зобову, что я к ним сходить не собираюсь – у меня на стенах дел до вечера. Хотят – пускай поднимаются, выслушаю.
Когда посадское посольство все-таки показалось на площадке, двое крепких молодцов из логачевских «соколов», державшиеся до сих пор незаметно, выдвинулись по правую и по левую руку от воеводы, встав на шага полтора впереди него. Каким-то образом им при этом удавалось оставаться незаметными. Купцы в отороченных мехом кафтанах долго отдувались. Старший из всех, посадский голова Зобов, дородный пятидесятипятилетний мужчина с красиво седеющей русой бородой, достаточно почтительно, но не особенно низко поклонился воеводе.
– Здрав будь, Михайло Борисович!
– Здрав будь и ты, Никита Прокопьич. Какая до меня нужда?
– Так ведь ты ее ведаешь.
На широком, покрытом легким загаром лице Зобова появилась, блеснув в бороде, чуть насмешливая улыбка.
– Не скажи. – Голос Михаила Борисовича был теперь совершенно спокоен. А взгляд пылал.
– Побойся Бога, воевода! – воскликнул купец. – Сам знаешь, как народ наш тебя уважает… Но можно ли творить тобой задуманное?! Дотла выжечь город, и людей без крова оставить! Где же видано такое?
Шеин в свою очередь усмехнулся:
– И крепость, и посад нам не удержать. Что ж, предлагаешь целый город врагу на блюде предподнесть? Подарить им дома, укрепления, подпустить к стенам крепости?! Может, скажешь и пушки вернуть на посад?!. Не по прихоти же своей я так поступаю, господа купцы, но только по последней необходимости.
Спутники Никиты Прокопьевича Зотова боялись встречаться взглядами с воеводой… Но один из купцов, тот, что помоложе, решился:
– А ежели сперва, как в купецком деле принято, выслушать условия, кои польский король поставит? Ему ж Москва нужна, да и идет он на Русь не землю нашу завоевывать, а смуту прекратить… Сам сказал, а слово королевское – что купецкое. Если он пообещает, что город нам оставит, не разграбит, не тронет людей, так отчего ему и не открыть ворота?
– И ключи от города сдать?! – Голос Шеина вновь дрогнул от ярости, рука против воли сдавила рукоять висевшей у пояса сабли. – И присягу, государю данную, нарушить и веру православную на чужую поменять?!
– Да разве Сигизмунд того требует? – возвысил голос Зобов. – Ты, Михайло Борисыч, его «Мемораднум» – тьфу, слово бесовское – хоть читал? Обещает Сигизмунд церкви православные не трогать. Он, может, и вообще оставит Смоленск в покое, ежели мы сами воевать не начнем!
– И пойдет мимо нас преспокойно на Москву? – Тут Михаил в упор посмотрел на Зобова, но тот до поры до времени выдерживал жгучий взгляд воеводы.
– Но в Москве-то – смута! – подал голос еще один купец. – Многие не только в народе, но и бояре – ропщут на Шуйского. Может, Сигизмунд и впрямь навел бы там порядок?
– Чей порядок? – резко обернулся к купцу Михайло Борисович. – Свой? Али не помнишь ты, что послы польские заявили Годунову, когда он на престол вступил? Прямо ведь сказали ему: отдай, царь Борис, княжество Смоленское нам! А Самозванец чем похвалялся, тоже забыл? Обещал же половину княжества воеводе Мнишеку, а половину – королю!.. И после этого, думаешь, поляки сейчас Смоленск стороной обойдут, не обидят?!
– Послушайте меня, честные люди! А ты, боярин воевода, дозволь сказать…
Все находившиеся на площадке разом посмотрели на Григория, до того лишь в сторонке молча слушавшего Шеина и посадских «послов».
– Говори.
– Я недавно прибыл из Европы, – проговорил Григорий. – Под конец скакал сюда из Орши, потому как видел там сборы польской армии и проведал кое-что об их планах… Не с миром идет к нам король польский, все его обещания – слова, и только. Его армия – алчный сброд из разных земель, единственное желание которого – поболе награбить.
Перекрикивая ропот, он возвысил голос:
– Я вот что еще скажу. Никто из завоевателей не приходил на чужую землю, чтобы подарить ей мир и с миром из нее уйти! Все идут, дабы ту землю полонить, опустошить или себе навсегда забрать… Смоленск ляхи польским городом считают и нас, русских, презирают, будто мы нелюди какие. Дикари… И нехристи, ибо они нашу веру не признают христианской. И этих вот «миротворцев» вы хотите в город впустить? Условия их принять?! Да они вас обманут, потому как побожиться вы им можете, только по православному перекрестясь, а это для них – не божба. Выходит, они, будто иудеи, считают себя вправе обманывать всех, кто не их веры! Так что – жаль не жаль посада, а все едино его не уберечь. Захватят его ляхи, обратят в оружие против крепости, а посадским от них и житья не будет, и добра они вам вашего все едино – не оставят!
И торговли они вам не оставят – и не мечтайте, – продолжал Григорий. – Знаете ли вы, господа купцы, что такое налоги? Не знаете? Потому что ихние налоги куда как выше, чем наши подати. А еще сборы бесчетные! За рождение, за смерть, за ловлю рыбы, за ловлю птиц, за сбор желудей? Да-да, желудей. Каждого шляхтича кормить надо! И это так они со своими. Вы же для них будете чужими!
В конце Григорий говорил спокойно, лишь чуть громче, чем обычно, да и побледнев, но более ничем волнения не выдавая, и от этого его речь произвела особенно сильное впечатление. Купцы за спиною Зобова, переглянулись и вновь согласно потупились. Смутился и сам Зобов, только что исполненный сознания своей правоты.
– Мы тебя не знаем, – только и нашелся он что сказать.
– По грехам нашим… – прошептал другой купец, осенив себя крестом. – Но все равно: своими руками погубить все, что годами строили…
– Будем живы – все вновь отстроим! – твердо сказал воевода.
Зобов все же собрался:
– В посаде нас тридцать тысяч! Да крестьяне из волости придут. Куда всех поселишь? Чем людей кормить будешь, если ляхи осадой встанут?
– Для дворян, стрельцов и люда купеческого места определены, – вместо Шеина ответил посадскому голове Безобразов. – Потеснятся наши, чай терема не треснут. Остальным выделят амбары да сараи – запасы из них уже перенесены в погреба. Там и сохраннее будут. Еще землю отведем, чтоб землянки рыть. Земли пустой в крепости много. Между Молоховскими и Крылошевскими воротами как раз место удобное. Зерна в крепости запасено вдоволь, надолго хватит. А на сколько – так это при всех сказать не могу, извини.
– Затянул Сигизмунд, – подал голос Горчаков. – Долго любезный собирался. Для длительной осады, согласно военному искусству, лучшее время – перед жатвой, когда закрома пусты. А у нас урожай собран и в этом году прямо на диво хорош. Ржи уродилось сам-десять, овса сам-шесть, ячменя опять сам-десять… Ну да вы-то все знаете, чего это я докладывать взялся.
– Господь вам всем судья! – проговорил, минуту помолчав, Никита Прокопьевич. – Хотел бы я, Бог свидетель, чтоб по-вашему все вышло…
С этими словами, уже не кланяясь, отвернулся и направился к лестнице. Его спутники на сей раз шли впереди него.
39
Поход войска под командованием Василия Шуйского на Тулу, ставшую оплотом повстанцев под предводительством Ивана Болотникова. Поход начался в мае 1607 года и после ряда успешных для царских войск сражений завершился в октябре того же года взятием Тулы.
40
Конь Федор Савельевич — выдающийся русский зодчий второй половины XVI века. Строитель крепостных сооружений – каменных стен и башен Белого города Москвы (1585–1893) и Смоленской крепости (1586–1602).
41
Сажень — старинная русская мера длины, равнялась 2,13 м.
42
Прясла — так в русской фортификации назывались участки стен между башнями.
43
Средняя высота крепостных башен Смоленска была 20–22 метра. Фроловская башня возвышалась на 33 метра и была, кроме всего прочего, прекрасным обзорным пунктом.
44
Городское население само выбирало «главу администрации». Посадским головой мог быть только кто-то из «лучших», т. е. наиболее состоятельных людей, но выборы были прямые и выбирали его именно посадские, обладавшие правом голоса.