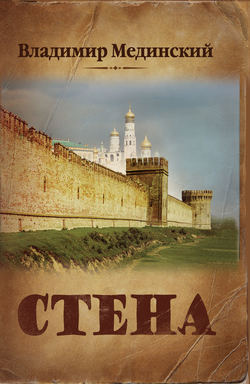Читать книгу Стена - Владимир Мединский - Страница 2
Отдѣлъ 1
Пером и шпагой (1609. Июль – август)
Неудачный день (1609. Август)
ОглавлениеВсадник гнал коня до самой городской стены и лишь у ворот заставил себя натянуть поводья. Выезжая из города, он даже голову опустил – казалось, стражники обязательно заметят его бледность и лихорадочные глаза и прикажут остановиться. Но солдаты даже не посмотрели на проезжего: мало ли их тут шастает взад-вперед. Время ночной стражи не наступило – мост опущен, решетка ворот поднята – ну так и пускай себе едет с Богом… Несет куда-то из города на ночь глядя, но это ведь не наше дело, правда? В Северной Вестфалии[1] хватает придорожных трактиров, чтобы найти ночлег.
Проехав шагом по мосту, путник вновь пустил коня галопом. Небо из синего делалось бледно-лиловым, дорога тонула в вечернем сумраке, с реки наползали белесые полосы тумана.
Когда всадник решился оглянуться, городских стен уже не было видно. Только громадная башня Кёльнского собора с торчащим из нее краном маячила на горизонте. И позади, и впереди не слышалось ничего, кроме ленивой переклички пичуг в окаймлявшей дорогу роще да мерного плеска весел – Рейн не спал ни днем ни ночью.
Погони вроде не было – стук копыт ему лишь почудился. В очередной раз почудился…
Ну и слава Богу.
«В конце концов, – подумал беглец, – ведь никого, ни одной живой души рядом не было… А если кто смотрел в окно, разве мог меня разглядеть? С чего я вообще решил, будто за мной будет погоня?!»
Тут ему стало ужасно досадно. Вот уж показал отвагу, нечего сказать! Бежал, как нашкодивший мальчишка… Хотя. Кто это сказал: «лучше позорно бежать, чем храбро болтаться на виселице»? Кто-то, верно, из великих европейских умов. И никогда ведь не докажешь, что не ты напал, а на тебя напали. Как говорят, опять же – были ложки, не было ложек. Судье не объяснишь.
– Господи, спаси и сохрани! – прошептал беглец и размашисто перекрестился.
Так или иначе, все обошлось – если не считать того, что приходится теперь скакать среди ночи неведомо куда, чтобы поскорее покинуть не только Вестфалию, но и вообще Священную Римскую империю…[2]
А ведь день начинался прекрасно.
На рассвете он въехал в эти самые ворота и оказался в вольном городе Кёльне. Он был и не был похож на прочие европейские города. Каким-то хитрым образом в нем соединились возвышенная, строгая чистота готической старины, деловитая практичность суетного семнадцатого века и веселость совсем не немецкого, а скорее южного города. Запрокинув голову, молодой путешественник чуть не час простоял возле громады Кёльнского собора. Его возводили уже несколько столетий, но пока из двух башен построили только одну – и ту наполовину. Стрела подъемного крана[3], торчавшая прямо из нее, сама по себе стала городской достопримечательностью. Грегори – а путешественника последнее время обычно все так коротко и звали – со всей почтительностью, придерживая шпагу, поинтересовался у местного бюргера, есть ли сведения, когда будет достроен собор. Тот, несмотря на классические лысину и брюшко, предполагавшие обстоятельность, легкомысленно ответил, что никогда, и тут же позвал пропустить стаканчик. Грегори отказался. В мерцающих сумерках собора его ждала встреча с мощами трех царей – трех волхвов, возвестивших явление миру Христа. Собственно, ради этой святыни он и сделал крюк по пути на Родину.
Из храма – а Кёльнский собор уже более трех веков строился именно как грандиозное хранилище для золотого ларца с мощами – путник вышел словно просветленный. Он забрал у служки свою шпагу, дав тому серебряную монетку, отвязал коня и огляделся. От площади расходились в разные стороны улицы – с домами, похожими один на другой: у большинства нижний этаж кирпичный, а верхние, один или два, деревянные. У некоторых эти верхние этажи, по принятому в больших европейских городах обычаю, выдавались примерно на аршин над нижними, делая и без того неширокую улицу темной и прохладной. Выглядит весьма романтично, только вот к вони столь же традиционной сточной канавы, проходящей ровно по середине брусчатки, Грегори за время своего путешествия так и не привык. Все европейские города, что в Германии, что во Франции, пахнут одинаково, только какие-то повонючее.
Грегори улыбнулся про себя, вспомнив, как ему с хохотом рассказывал один бургундский кузнец, поправлявший подковы: «Будете подъезжать к Парижу – сначала почувствуете запах, а не пройдет и получаса, как увидите городские стены – ха-ха-ха! И эти голодранцы еще именуют себя столицей королевства! Ха-ха! Выскочки и невежи, не знающие толком ни как молиться, ни как помыться. Виданное ли дело: сам король – этот беспутный прощелыга и еретик Анри – меняет веру как девок. Да, каков государь, таково и государство. Ничего, возродится еще наше герцогство – помяните мое слово, месье, возродится![4]»
«Да, – отгоняя воспоминания, покачал головой Грегори, – и представить нельзя, чтобы у нас дома простой кузнец столь же вольготно крыл своего Государя… даже представить… Впрочем, чтобы монарх добровольно менял веру – такого тем паче представить невозможно. А тут это за норму. И не то, что сами короли перекрещиваются туда-обратно, так зачастую и подданных заставляют. Как говорят в Германии, «чья власть, того и вера!». Если местный курфюрст или герцог стал поклонником богохульника Лютера – добро пожаловать всем подданным в лютеранство. А ежели народился добрым католиком – тогда все! – смерть протестантам! Все будем строгой католической веры. И ничего – живут люди: радуются, женятся, детей рожают да добро наживают. Может, так оно и можно? Бог-то один – как любят говорить нынешние ученые-философы, а вероисповедание – уже вопрос традиции»…
Эти греховные мысли давно уже одолевали Грегори, и вот, пока он окидывал взором Кёльнские башни, – снова полезли ему в голову… Фу! Он тряхнул головой так, что шляпа едва не слетела на мостовую.
Портить утро глупыми философствованиями совершенно не хотелось. За городской стеной дышалось свободнее, и всадник повернул коня в сторону реки. В большой торговый порт по Рейну приходили корабли и лодки, груженные разнообразнейшим товаром, отсюда отчаливали суда, на которых купцы везли изделия цехов и мануфактур в разные города и страны.
Приезжий полюбовался сверкающим в утренних лучах широченным Рейном, посмотрел, как сворачивают паруса матросы торговых шхун, как с веселой песней тащат с баркасов на берег корзины с рыбой и ободранные бараньи туши. И вдруг вспомнив, что вчера только обедал, а ужинать не пришлось, отправился искать трактир.
На углу широкой площади он нашел заведение, в дверях которого горделиво застыл самолично хозяин, ничуть не похожий на обычного бюргера, – у него не было ни выпирающего из-под холщовой рубахи брюха, ни пушистых усов до подбородка, ни лысины. Был он высок и худощав, в красном сафьяновом камзоле без рукавов и в красных же башмаках на деревянной подошве.
– Ищете, где остановиться, господин? – дружелюбно спросил он приезжего.
И тот, сразу почувствовав к хозяину расположение, ответил:
– Кажется, уже нашел.
– Тогда слезайте с коня. Мой сын отведет его в стойло, напоит и накормит… Эй, Хайнц, живо сюда! Судя по выговору, вы приезжий. Откуда пожаловали? Не из Баварии?
Трактирщик был определенно человеком опытным, привычным ко всякого рода постояльцам – кто только не приезжает в славный город Кёльн, – однако ответ путника все же его изумил.
– Что вы говорите! – Хозяин удивленно задрал брови. – Никогда в жизни не видел живого московита! Но выглядите вы вполне нормальным европейцем.
– Надеюсь, – безо всякой обиды ответил приезжий.
На вид ему можно было дать лет двадцать пять, и, когда он ловко соскочил с коня, кинув поводья подбежавшему мальчугану, оказалось, что он высок и весьма ладно сложен. Аккуратно выбритое лицо, тронутое дорожным загаром, обрамляли светлые кудри, отпущенные по последней местной моде ниже плеч и еще не совсем развившиеся после того, как пару дней назад над ними поработал цирюльник. Одет московит был в длинный модный камзол – малиновый с серебряными пряжками, широкие плисовые штаны и идеально гладкие чулки, белизну которых почти не испортила дорожная пыль. Башмаки, определенно голландские, с вытянутыми носами и тоже с серебряными пряжками, даже вызвали зависть хозяина – в Кёльне таких не делают!
«Ну и горазды же врать эти иезуиты! – подумал про себя с ухмылкой немец, провожая гостя. – Каждый знает: московиты носят бороды до пояса, а на головах меховые шапки высотой с печную трубу! К тому же у их мужчин одежда длиннее, чем у женщин, и летом они всегда разодеты в жаркие меха… Если этот папский шпион – московит, то я, пожалуй, сам экселенца Борджиа, ну-ну…»[5]. Трактирщик всегда интересовался рассказами своих клиентов и постояльцев о дальних странах и чужих обычаях и почитал себя не без оснований крупнейшим знатоком европейской географии.
Возле печи хлопотала женщина лет на десять моложе хозяина, в опрятном чепчике и в фартуке, из-за крахмала похожем на вздувшийся парус.
– Моя супруга Анне, – представил женщину хозяин. – А могу я узнать имя нашего уважаемого гостя?
– Григорий, – сделав небольшую паузу, отозвался молодой человек. – В Голландии меня обычно называли Грегом Кольдером, а в Англии – Грегори Коулдом. Или просто – Грегори. Словом, кому как нравилось.
– Гре-го-рий! Гре-го-ри! – раскатисто повторил хозяин. – Очень хорошее имя. И вы прекрасно говорите по-немецки!
«Интересно, как тебя на самом деле зовут, папская ищейка. Может, Грегорио или просто Горио?» – подумал хозяин про себя.
Приезжий явно испытал удовольствие от похвалы.
– Ну, немецкий-то я просто начал учить раньше прочих языков, да и нравится он мне больше всех.
– О! Так вы знаете и какой-то другой язык?
– Знаю, но, конечно, похуже. Французский, шведский, английский.
Трактирщик восторженно прищелкнул языком.
– Так молоды, а выучили столько премудростей! Словно настоящий кардинал! А итальянский не знаете? Нет? Никогда не приходилось бывать в Риме? Господи, зато польский знаете немного?.. Пф! Не представляю, как можно было его выучить.
Григорий вдруг расхохотался. Последнее замечание хозяина ему пришлось почему-то по душе.
Трактирщик продолжал не без иронии демонстрировать свою недюжинную наблюдательность:
– Давайте попробую угадать, зачем вы здесь… Три короля?
– В точку, – удивился Григорий. – Оказаться в Вестфалии и не прикоснуться к величайшей святыне христианского мира…
– Я-то сразу вижу – вы не купец, не моряк, не солдат…
– А кстати! – торопливо перебил его русский. – Кто-нибудь в Кёльне имеет представление, когда будет достроен собор? Что-то я не заметил на башнях ни одного каменщика.
– Никогда.
– Ого, я сегодня уже слышал такой ответ!
– Неудивительно. По легенде, Кельн будет жить и процветать, пока собор не будет достроен, – ухмыльнулся трактирщик, и крайне довольный собственной проницательностью – влет раскусил молодого иезуита! вот что значит знать правду о дальних странах и народах! – удалился в сторону кухни.
Словом, с утра день русского дворянина Григория Колдырева (вопреки всем подозрениям трактирщика, это действительно был русский и так его на самом деле звали), оказавшегося в дальних странах по воле Посольского приказа[6], складывался как нельзя удачнее. И ничто, совершенно ничто не предвещало его бурного продолжения и самого ужасного завершения.
Особое удовольствие от позднего завтрака доставляло то, что столы трактирщик выставил на свежем воздухе. Вот что Григорию нравилось! «Эх, таких столов да лавок прямо на зеленой мураве широких московских площадей мне будет не хватать, – размышлял он. – Наши-то набьются как селедки в бочку, чад, гам, теснота… А здесь сидишь, сам себе господин, людей разглядываешь, а они – тебя. Европа!»
Прямо над Григорием размещалась веселая вывеска, которую сразу не приметил: она изображала толстого бюргера, держащего в руке колбасу и уже откусившего от нее. А колбаса у хозяина, ничуть не напоминавшего толстяка с картинки, и впрямь была отменная, не зря немцев все называют колбасниками!
Итак, молодой путешественник сидел за массивным столом, поглощая уже вторую вкуснейшую колбасину и запивая ее не менее вкусным местным рейнским. Он похвалил вино хозяину – этот европейский обычай оценивать вино ему тоже очень нравился, – и тот сразу принес второй кувшин, сообщив, что это из другой бочки и за счет заведения.
Особой разницы Григорий, если честно, не заметил, но впал в совсем уж благодушное и мечтательное настроение. Разглядывая растущий прямо из-под стены трактира виноград, он думал о том, что надо бы чтобы в Москве вот так же выставляли столы.
«Правда, не зимой, – уточнил он смелый план и даже ухмыльнулся, представив красноносых мужиков в тулупах, выковыривающих пальцами из чарок замерзшее хлебное вино. – И, конечно, не осенью. Дождь да ветер. И лучше не весной. Зябко еще, пока снег-то не сошел. А вот летом – красота!.. Хотя летом, признаться, будет слишком жарко».
Харчевня расположилась неподалеку от известного всей Европе Кёльнского университета. Здание, возведенное полтора века назад, высилось в конце улицы, Григорий рассматривал его четкие, строгие линии, – хотя, сказать по чести, к концу второго кувшина они стали не такими уж четкими и строгими, – как вдруг на улице вспыхнула ссора.
Ссорились несколько молодых людей, по виду – студентов: визгливо бранясь, они наскакивали на молодого мужчину несколько их постарше. Тот же, встав в позу, выдающую полнейшее презрение, и даже скрестив руки на груди, выслушивал оскорбления с усмешкой.
– Проваливай из нашего университета, хам, солдатня! – вопил со вкусом завитый и румяный молодец со свисающей из левого уха бриллиантовой сережкой. – Благородная наука не для тебя!
– Тебе бы только своими железками в кузнице ворочать! – захохотал другой, видом покрепче и посильнее, но с таким же неестественным румянцем. – И ты еще рассуждаешь о том, чего твоим плебейским мозгам в жизни не понять!
– А мы сродни римским патрициям! Мы не боимся замшелых запретов! – крикнул третий.
– Да куда ему! – возопил студент с сережкой. – Конь дубовый! Я знаю, у него это по наследству – и отец его такой же тупоголовый вояка, а дед тот вообще…
– А вот отца и деда трогать, господа, не стоило, – негромко сказал объект насмешек.
В тот же миг в руке его сверкнула шпага – никто и не заметил, когда он успел выхватить клинок. Один незаметный взмах – и бриллиантовая серьга шлепнулась на землю, а вслед за тем нарумяненную щеку украсила небольшая в вполвершка косая царапина, из тех что заживают у юношей уже к следующему утру, не оставляя, к их разочарованию, даже намека на мужественный боевой шрам. Однако молодчик заверещал так, словно его проткнули насквозь.
Его обидчик медленно вложил шпагу в ножны и проговорил подчеркнуто спокойно, словно ничего только что и не произошло, но Григорий его хорошо слышал:
– К вашему сведению. Предки мои воинами не были. Правда, имели прямое отношение к оружию. И отец, и дед у меня – оружейники, и я ими горжусь. Сережку подбери, сопляк, починишь у ювелира, а я считаю на этом сатисфакцию достаточной…
Вполоборота развернувшись на каблуках, он явно собирался уйти, но тут секундная оторопь его обидчиков прошла – и шпаги разом оказались в руках всех пятерых.
И тут студент, названный солдафоном, вполне оправдал свое прозвище. Выпад в спину он отбил молниеносным движением без замаха, с полуоборота, казалось, даже не обернувшись и не видя соперника, а лишь предвосхищая направление удара. Его шпага стремительно замелькала, выписывая в воздухе странные фигуры на уровне лиц противников и неожиданно ударяя – то слева, то справа – по плечам и рукам нападавших. И если бы он рубил по-настоящему – лезвием, то юнцы вполминуты остались бы с резаными ранами, а кто-то, может, и без руки. Но удары плашмя тяжелой мушкетерской шпаги, коя была длинней оружия его противников чуть не в полтора раза, лишь оставляли ссадины и синяки – не калеча нападающих.
Лицо защищавшегося при этом даже не раскраснелось, более того – выражало откровенное удовольствие.
– Раз вам так хочется, готов обучить вас своей солдафонской науке! – повысил он голос. – Что, содомиты паршивые, боитесь подступиться? Ну что же вы? Шпага – не алебарда, это не так уж страшно… Ну, вперед!
Содомиты!
Слово, произнесенное студентом, разом все объяснило Григорию.
Не раз доводилось ему слышать, что при университетах Европы нонче возникают компании юношей, несколько, скажем, излишне увлеченных просветительскими идеями. Конечно, в этом заключается определенная опасность – содомский грех осуждается не одной только Церковью… однако в крупных городах у них всегда находятся влиятельные покровители – тайна объединяет и связывает верной порукой, говорят, они образуют потаенные общества, которых иной раз опасаются даже власти…
Григорий сам не понял, как оказался не за столом, а на улице – и со шпагой в руке.
– Господа! Впятером на одного – нечестно, вы так точно потеряете право называться мужчинами…
Одинокий вояка бросил лишь один взгляд на человека, неожиданно вставшего рядом с ним. У «солдафона» было хорошее лицо – с правильными, крупными чертами, украшенное пушистыми, ржаного цвета усами, и неожиданно по-детски светло-голубыми глазами.
Студенты не ожидали вмешательства и дрогнули, чем усатый и не замедлил воспользоваться. Одного он пресильно треснул шпагой прямо по предплечью возле гарды. Противник был без обычных для поединка длинных – в локоть – перчаток из толстой кожи, а потому, истошно завопив, выронил короткую шпагу с замысловато украшенным эфесом, и, затряся рукой, отскочил в сторону. Другого «солдафон» – как бы продолжением того же изогнутого удара – угостил плашмя по широкополой шляпе с пижонскими цветными перьями. Тот закачался и рухнул на задницу, нелепо уставившись в глубину улицы. «Были бы мозги – наверняка получил бы сотрясение мозга», – глядя на осоловевшего студента, вспомнил старую шутку Григорий.
Тут-то противники и показали спины – хотя в данном случае, скорее, зады. И Григорий удержаться не сумел. Поступил, признаемся, неблагородно. Проводил одного из замешкавшихся студентов, легонько ткнув острием шпаги в то место, которое служило самым ярким выражением его свободомыслия. Вновь раздался отчаянный вопль, и вся компания резво припустила прочь, провожаемая дружным хохотом русского и немца.
Только тогда усатый повернулся к неожиданному союзнику:
– Спасибо. Я бы и сам справился, но всегда приятно, когда кто-то встает с тобой плечом к плечу…
– Я, вообще-то, прибыл с миротворческой миссией… Честно, думал вас с ними разнять. Но соблазн оказался слишком велик.
– Господи, кого только не носит земля германская! Стыдно за родину, право слово. А ведь их становится все больше и больше, вон, даже в университете завелись, выживают постепенно честных христиан…
– Не переживайте, добрый господин. – Григорий приятельски хлопнул «солдафона» по плечу и уверенно сказал: – Это всё наносное. Неприятные, но временные плоды свобод и просвещения. Вскоре они исчезнут сами собой.
– Хотелось бы верить, – вздохнул немец.
– А как иначе! Влечение мужчины к мужчине есть всего лишь порождение ущербного разума, противоречащее законам Бога и природы – ведь родить друг от друга они не смогут, а значит – обречены на вымирание!
– Золотые слова, – вынужден был признать рыжеволосый. И протянул руку: – Меня зовут Фриц.
– Григорий.
Ладонь немца оказалась сухой и крепкой.
«На Руси такого безобразия уж точно никогда не будет», – подумал Григорий. На секунду представил себе, как по улицам Москвы неприкрыто, не таясь, идут парадом сотни напомаженных, нарумяненных мужчин в женских платьях, и прыснул в кулак. Нет, милостивые государи, такое возможно только в ошалевшей Европе, но уж никак не дома…[7]
– Что вас так развеселило? – спросил Фриц.
– А, пустое. Лезет в голову чушь всякая… Выпьете со мной? Здесь отличное рейнское.
Фриц развел руками:
– Увы! Мне давно уже нужно быть в другом месте. Простите, дружище! Возможно, нам еще повезет встретиться?
– Все возможно в этом мире, – философски заметил русский. – Желаю доброго здравия.
И вернулся к себе за стол. Столь лихая виктория, к тому же на виду у нескольких милых трактирных служанок, которые разрумянившись, с восторгом смотрели на победителей, – все это окончательно привело Григория в радостно-залихватское безоблачное настроение. Допивая второй кувшин, он уже строил планы, к какой из фройляйн стоит повнимательнее подкатить за ужином, а пока решил снова отправиться в порт. Поглазеть на форму и оснастку европейских судов да, может, поболтать с кем из матросов. Последнее время морская тема его стала особенно занимать… Сильно навеселе, он кивнул хозяину, выбрался из-за стола и побрел по пустынным улочкам к Рейну.
Дойти до порта у Григория в этот раз не получилось.
Он вовремя услыхал за спиной подозрительный шорох и успел обернуться в то самое мгновение, когда темная тень, отделившись от стены, метнулась к нему. Было еще светло, даже на узкой улочке, и Колдырев прекрасно разглядел узкое стальное лезвие, покачивающееся у него прямо перед носом. Узнал он и нападавшего: то был один из пятерки «патрициев», тот, которого он весьма непристойно кольнул в зад. Видно, он следил за русским, терпеливо выжидая, пока тот останется один.
– А ты парень из благородных! Сразиться один на один – это достойно! – пробормотал Григорий по-русски и, отскочив назад, выхватил шпагу.
Дрались они всего полминуты, но схватка всегда кажется долгой.
Нельзя сказать, чтобы Григорий был непревзойденным фехтовальщиком – он, как и положено каждому молодому дворянину, терпеливо обучался азам этого искусства, но, увы, вершин не достиг… Хуже того, один из учителей (а сменилось их немало – да все без особого толку) как-то и вовсе обозвал его «деревяшкой». А вот «патриций» фехтовал недурно и, на удивление для жеманного красавчика, напористо. Григорию, к тому же еще и хмельному, определенно было бы несдобровать… Спас его – нет, не случай и не чудо, а хитрый прием, которому совсем недавно в Париже научил Колдырева один знаменитый шпажист…
Григорий оказался буквально создан для этого приема – редкого, требующего особой слаженности движений рук и ног и потому почти неизвестного в среде даже профессиональных фехтовальщиков. Однако то ли телосложение Колдырева, то ли особенности его природной реакции, то ли и то и другое вместе позволили всего за несколько уроков освоить удар и впредь поражать соломенные чучела стремительно и точно, удивляя даже самого мастера. В драке с настоящим, живым противником пользоваться этим приемом Колдыреву никогда, конечно, не доводилось, ему казалось, что он и вовсе его позабыл, однако сейчас тело как бы само, без помощи хмельного разума вспомнило последовательность движений…
Едва заметное глазу вращательное движение кистью, обманно качнуть влево, выпад – и удар! Снизу вверх, безжалостно и хладнокровно, как учил шпажист, целя содомиту промеж глаз, в точку прямо над переносицей.
Он даже удивился, как легко лезвие вошло аккурат между бровей. Противник на мгновение замер, затем колени его подогнулись, и бездыханное тело мягко осело наземь…
Колдырев некоторое время стоял, растерянно глядя на черное пятно, что упорно ползло к его ногам из-под скорченного на мостовой тела. Страх возник позже, разом вытеснив возбуждение драки и мгновенное упоение победой.
Господи, он же взаправду убил человека, судя по манерам и одежде, из знатной семьи! Спаси и сохрани!
Убил честно, в поединке? Но где секунданты? Свидетели? И кто сказал, что это послужит оправданием? А если всплывет еще и смерть сэра Артура Роквеля!..
…Потом Григорий все пытался вспомнить, как вбежал в залу трактира, где, на счастье, не было ни хозяина, ни его жены, как бросил на стол горсть монет, как потом дрожащими руками отвязал своего коня и, читая «Богородицу», выводил его на улицу… Но память отказывала – в себя он пришел только за городскими воротами.
И вот вольный город Кёльн остался далеко позади, а впереди – ночь, ползущий с Рейна туман и полная неопределенность – куда направиться и, вообще, что теперь делать. Вверил он свою жизнь воле Божьей. И воля та, непреклонная и суровая, начала незамедлительно исполняться…
1
Вестфалия — историческая область на северо-западе Германии.
2
Священная Римская империя (германской нации) (962 – 1806) – государственное образование со сложной иерархией, в котором доминировала Германия. В лучшие свои годы простиралась от Балтики до Средиземного моря, однако императорская власть была в этом конгломерате независимых государств, по сути, символической.
3
Работы на южной башне собора были прекращены в XV веке, и на высоте 50 метров застыла огромная лебедка – ручной подъемный кран. В таком виде немецкий долгострой простоял 400 лет.
4
Объединение французских земель вокруг Парижа в XV–XVI веках шло не менее трудно, чем «сбирание русских земель» московскими князьями. В этом плане отношения королей и Великого Герцогства Бургундского весьма напоминают перипетии истории Москвы и Господина Великого Новгорода, правда в гораздо более жестком и циничном варианте. Порой лишь хитрость и беспринципность монархов удерживали Францию от распада и новых витков религиозных войн. «Париж стоит обедни», – говаривал самый популярный монарх Франции и положительный герой бесчисленного множества исторических романов, пьес и фильмов Генрих IV Наварский: ему пришлось трижды сменять вероисповедание в угоду политической конъюнктуре. На это и намекает кузнец.
5
В середине XVI века в Ватикане осознали опасность протестантства и запустили механизм, который получил название Контрреформации. Деятельными усилиями пап римских Пия V и Сикста V протестанты были полностью изгнаны из Италии и Испании. С Францией, а особенно Германией, было сложнее. Приходилось использовать и привычные «дедовские» методы инквизиции, и новые приемы, на которые большими мастерами оказались иезуиты. Шпионские сети были раскинуты по всем протестантским землям Германии. Прямо как в песенке из мюзикла «Три мушкетера»: «Войдешь в трактир – сидит шпион, войдешь в сортир – сидит шпион, а не войдешь – известно кардиналу». А между тем Германия медленно, но верно катилась к катастрофе Тридцатилетней войны (1618–1648).
6
Посольский приказ (1549–1720) – первое дипломатическое ведомство России.
7
К чести Европы, в те времена она боролась с безнравственностью активно и успешно. Большинство реляций вовсю действовавшей и в XVII веке Инквизиции касалось не ведьм, а именно случаев «содомского греха».