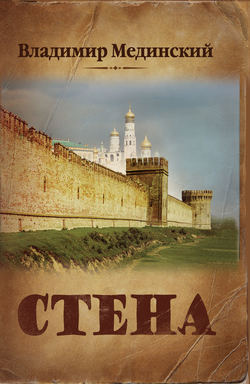Читать книгу Стена - Владимир Мединский - Страница 6
Отдѣлъ 2
Красное и черное (1609. Сентябрь)
Сокол возвращается. (1609. Сентябрь)
Оглавление– Дядь Митько, а все ж, ну как он пуляет-то? Ежели у него вместо крючка штучка какая-то, то на чё нажимать-то?
– А вот на то и нажимать, на этот шарик. Вещь редкая, работы дивной, так что лучше бы ты, Александр, ее руками не трогал! И так тебе все показываю да обсказываю.
– Ну так покажи ж как пульнуть!
– В доме, что ли?! Совсем ты без ума, парень, даром, что вот-вот двенадцать сравняется…
– А сам ты, дядь Митько, зимой по печке стрелял, помнишь? Две буквы на ней выбивал из пистолей – «М» и другую, нерусскую. Фита по-нашему. Помнишь?
– Господи, помилуй мя грешного… Расшатались скрепы мира сего! Не-ет, расшатались, растряслись! Где ж это видано, чтоб дворовый мальчишка барину противоречил да супротивничал? Да как ты посмел нас равнять, негодник?!. Лучше вон глянь, чего это собаки лай подняли. Или к нам кто пожаловал?
Санька не без сожаления положил обратно на стол диковинный пистоль и метнулся к открытому окну. С высоты второго этажа он увидал, как стряпуха Петушка отворяет ворота и в них появляется фигура в длинном сером одеянии.
– Дядя Митько! Это, кажись, к нам батюшка пришел! Новый батюшка, что третьего дня приехал!
Дмитрий Станиславович в свою очередь поспешил глянуть через окно во двор и тут же направился к лестнице.
Его не удивило посещение священника – к кому же идти вновь назначенному настоятелю местного храма, как не к хозяину имения и самой деревни? Но визит был приятный, и Колдырев-старший поспешил принять гостя со всем тщанием.
Село Сущево было невелико – всего дворов за сорок, но жило зажиточно. Можно сказать – богато жило. Хозяйства были большие, дородные и многоземельные, а главные дома располагались в стороне от полей – чередою, по-над невысоким в этом месте берегом Днепра. А еще выше, на холме, среди старой липовой рощи, стоял, не сильно выделяясь размером от крестьянских, и сам господский дом, родовое имение Грязновых, ныне – небогатая вотчина отставного смоленского воеводы.
…Приехал он сюда почти сорок лет назад, спасаясь от государева гнева. И по сей день Дмитрий Станиславович не знал, кто тогда оклеветал его, кто виноват в опале на друга покойного попа Сильвестра.
Отец Григория прожил жизнь бурную, богатую событиями, так что иные даже удивлялись, как это он ухитрился дожить до старости и ныне здравствовать. Смолоду отличился он в ратном деле. Повоевал и под Астраханью, и в Польше, и в Ливонии, отслужил дале пару лет в далеких Холмогорах, а после уж осел на государевой службе в родной Москве.
Царство Московское росло и укреплялось, вызывая все большие опасения у соседей… После взятия Казани был Иоанн Четвертый прозван Грозным – как и его дед Иоанн Третий. С вековечным врагом покончил государь, отблагодарил народ его как мог… И что же? Почетное прозвище, данное русскими, европейцы переиначили, перевели «ужасный» – «террибль». А потом под «террибля» стали подгонять уж все, что бы ни вершил Иван Васильевич – и справедливую кару для изменников, и прополку сорняков на государской ниве, и всякие несуразные жестокости его правления. Крут был царь, подозрителен сверх меры и веровал в то, что все грехи Святой Руси может взять на себя, ибо он, Помазанник, отвечать за нее будет перед Богом… А кто из государей шестнадцатого столетия, века клятвопреступлений и измен, был мягок душою, в какой стране? Ничего такого не сотворил Иоанн, что бы ни водилось в других государствах, у других правителей. Бывало у тех в десять, а то во сто крат грехов поболе! Но «ужасным» прослыл только он…
А еще – не главное это, но важное, – доходили известия из России до Запада искаженными, ибо шли все они через Польшу. У Речи же Посполитой в те времена на огромные пространства на Востоке имелись свои небескорыстные виды. Потому и изменников навроде князя Андрея Курбского там привечали, и сочинителям своим доморощенным заказывали всяческие живописания ужасов, творимых московитским варваром. «Царь Васильич, прозванный за жестокость свою безмерную Ужасным» – так прямиком в заголовке одной книги и написали. Раз ехал из Рима в Москву папский легат союз заключать: Святого Римского престола и России – против турок-басурман. Так по пути, в Кракове, дали ему специально «в дорогу» почитать эту книжицу, содержавшую безмерный список злодеяний Грозного. Ужаснулся добрый католик, перекрестился слева направо и отправился назад к себе в Ватикан, видимо, благодарить судьбу, что уберегла его от встречи с сим исчадием ада.
Самый же великий урон нанес себе русский Ваня – даром, что царь! – сам, своею собственной рукой. На закате дней своих взял да и решил припомнить поименно все загубленные им души. Покаяться, короче. Список-синодик составил, вписать туда повелел всех, кого припомнили – от воров-разбойников и бояр-изменников до воистину жертв невинных и оговоренных. Разослать велел царь этот список покаянный по монастырям на помин, дал еще монастырским вкладов щедрых – отмаливать его царскую душу грешную да поминать воедино всех усопших… Вот этого ему после и не простили! Ибо истинно цивилизованный европейский правитель всегда прав, каяться ему не по чину.
Что же до Колдырева-старшего, то был он Иоанну Васильевичу предан искренне, всей душой, и, вероятно, потому сдружился с человеком, коего вообще мало кто любил при дворе, – а скорее, все просто боялись. То был начальник царской охраны Гришка Бельский, царев сторожевой пес. За громадный рост и силу наградили его метким прозвищем Малюта, то бишь, Малыш, и прозвище вскоре заменило настоящее имя… А фамилию другое заменило прозвище, по отцу, – Скуратов, то есть высокий, стройный. Хоть и считали Малюту все лишь палачом-извергом, но в жизни был он не только мастером пытошных застенков, но и попреж всего – солдатом. Участия в государевых походах Григорий-Малюта Бельский-Скуратов никогда не чурался, и в сечи был всегда – в первых рядах.
На войне-то и сдружились Дмитрий и Григорий.
Другим другом Колдырева в Москве стал царский любимец поп[19] Сильвестр, и некоторое время эта дружба сильно помогала Колдыреву в продвижении по службе. А потом вдруг Сильвестр впал в немилость. Друзья и советники молодости: Адашев, Сильвестр, Висковатый, Курбский, – царю надоели. Кому-то хватило чутья отойти в тень, а Сильвестр все лез да лез к государю со своими нравоучениями: все-то он знал, во всем-то царя поправлял… Но в конце концов и этот все понял и задолго еще до введения опричнины вдруг покинул Москву. А потом круг старых друзей постигло несчастье: предал и перебежал к полякам князь Андрей Курбский. Плохо перебежал, по-подлому. Семью и детей – и тех бросил, с собой не взял. И не просто сел подле польского престола, так стал полки польские водить на русскую землю, а государю, словно дразня его, – письма срамные слать, позоря его и уличая в грехах страшных, как подлинных, так, впрочем, и мнимых. Для Колдырева последствий то никаких прямых не имело, Курбский был заносчив, и со «всякими Малютиными дружками» не знался. Только вот отныне былое покровительство Сильвестра – вот это стало считаться червоточинкой: всем, кто близко ли, далеко от изменника был, Иоанн теперь не верил. В общем-то, он теперь уже вообще никому не верил.
Без малого в тридцать лет Дмитрий женился, сосватав боярскую дочку, на которую заглядывался не первый год. Людмила Грязнова пошла за него охотно: ладный собой, веселый да удачливый дворянин ей нравился…
Словом, жизнь складывалась, несмотря на тревожное время и нелегкую службу. Впрочем, и на службу жаловаться было грех: место в Кремле он занимал завидное и жалованье имел немалое. Это его и погубило.
Внезапная опала обрушилась будто топор на голову. Даже не опала – угроза неминуемой гибели. В последний момент предупредил его человек, коему по должности никак нельзя было этого делать: его друг Малюта.
Тогда-то, зимой тысяча пятьсот семьдесят второго года, не исполнил Малюта Скуратов государева повеления. Поздней ночью, один, прискакал он к терему своего друга и, едва перекрестясь на образа, сказал:
– Беги, Митька! Не смог я отговорить государя! Он и мне не верит, твердит, что без огня дыму не бывает. Тень Сильвестра на тебе! Государю уж все едино, что этот поп блажной, что изменник Курбский, да будет проклят род и потомство его. Раз, мол, доносят, может, ты и вправду – упырь, изменник.
– Ты в это веришь?! – вскинулся Дмитрий.
– Верил бы, не сам бы к тебе приехал, а людей послал! – насупился богатырь. – Я ж наземь пал перед Иоанном Васильевичем, просил тебя не трогать! Так нет, говорит, на дыбе проверить надобно. А на дыбе кто ж не скажет того, чего требуют? Езжай-ка, друг, отсюдова побыстрее! Да не скачи в Звенигород, в имение свое, там тебя соколы мои враз отыщут.
Малюта вдруг хмыкнул:
– А то и сам государь увидит… Он туда на богомолье ездит.
– И куда же мне? – растерянно воскликнул Колдырев. – Был бы я один, а то ведь, сам знаешь: год как женат, и Милуша моя ныне на сносях. Куда ж я с нею?
Но, сказав так, Дмитрий вдруг хлопнул себя по лбу:
– Вот дурачина! Про жену вспомнил, а того не сообразил, что у нее ж вотчина своя есть: под Смоленском, в глуши, в деревушке. Она и записана не на Милушу. Да и вовсе – никто в Москве про то имение не знает!
– Вот и славно! – перевел дух Скуратов. – Собирайся скорее, жену буди да в дорогу. Слава Богу, глядь, снег пошел. Ехать можно в санях, беременную бабу в седле не трясти, и следов к утру не останется – все заметет. А уж розыскных я сумею на ложный след направить. Пускай мои волчаты рыщут в другой стороне. Прощай, брат!
…А потом была метель, заиндевелые гривы коней, влекущих сани в клубящуюся черно-белую мглу. И сдавленный крик Милуши: «Митя! Ох, помоги! Ох, не доеду… Здесь разрешусь!»
Все будто в тяжелом сне было: бегство из Москвы, в имение жены под Смоленском, рождение прямо в дороге его первенца, который, наверное, из-за этой безумной гонки в зимней ночи народился мертвым. Милуша, милая его жена, тогда едва не изошла кровью; верно, только молитва спасла ее… Тогда он стойко принял все бедствия. Ходил в скромный деревенский храм, ежедневно молясь о здравии государя (прежде, чем о себе и о супруге), а равно и о том, чтобы царские подозрения рассеялись, чтобы изгнаннику возможно было возвратиться в Москву.
Нежданная смерть Малюты перечеркнула надежды. Время шло, известий из Москвы не было… В конце концов они с Милушей смирились и просили Всевышнего только о даровании им детей. Но после тех несчастливых родов Людмила все никак не могла понести.
Минуло двенадцать скудных лет в затерянном среди смоленских лесов селе, с горькими думами о том, что жизнь протекает бесполезно… В Москву он возвратился только после кончины государя. Узнав о незаслуженной опале воеводы, призвал его на службу новый царь Федор Иоаннович.
Был это тысяча пятьсот восемьдесят четвертый год от Рождества Христова, и Дмитрию на ту пору сравнялось уже сорок четыре года. Не старик, нет, но начинать все сначала… Однако он, не раздумывая, отправился в столицу с женою и новорожденным сыном. Да, Бог в тот год наконец даровал наследника – после того как бездетная чета наведалась на богомолье в псковские Печоры, к знаменитой иконе Успения Божией Матери. Крещен наследник был Григорием, в память друга-спасителя Малюты Скуратова – Григория Бельского. Вновь поднимался Колдырев из своей безвестности – раз зовут еще послужить Руси, то раздумывать тут нечего!
Но привыкнуть к новым порядкам, заведенным царем Федором, Дмитрию оказалось непросто. Вот ведь едва не погубил его – а ведь погубил бы! – отец царя нынешнего, но не раз и не два вспоминал старые времена он добрым словом. Вроде и мягок и благочестив был новый государь, вроде и милостив с поданными, особо с военными… Да не было теперь в Москве и, как видно, во всей Руси Великой, той ясной прямой воли, того упрямого стремления, которым отличалось государство при Грозном.
Так поначалу и служил-маялся Колдырев в Москве, пока власть как-то плавно не перетекла в руки государева шурина Бориса Федоровича, и вновь многое изменилось. Борис Годунов был решителен и умен, когда нужно, умел резко возразить, а когда приходилось, умел и смолчать – не царь ведь, царский шурин, что же поделаешь?
По ходатайству Годунова Колдырев и получил назначение – вторым воеводой на Смоленске. И тотчас отбыл в те места, где столько лет они с любимой женою тщетно молились о снятии опалы и о даровании им ребенка… И снова – совпадение, снова на смоленской дороге его ждала страшная потеря. Супружница его простудилась – и сгорела за три дни. Похоронил он свою Милушу в ограде простой деревенской церкви, в Сущеве.
В Смоленске Дмитрий Станиславович прослужил с перерывами десять лет, и в конце концов решился подать государю прошение об освобождении от службы. Смоленская крепость была построена, встала на Днепре во всей своей горделивой мощи. Понял старый Колдырев, что главное дело своей жизни свершил – и решил на этой высокой точке уйти на покой. Воеводе было уже за шестьдесят, так что отказать царь не смог.
И круг замкнулся. Колдырев-старший, на сей раз один, вновь водворился в жениной вотчине под Смоленском.
Окончательно оставив службу, Дмитрий Станиславович, чтоб не сидеть без дела, занялся починкой и переделкой старого дома. Тот был не велик – двухэтажный бревенчатый терем, с тесаной крышей, с небольшими оконцами, затянутыми по старинке бычьим пузырем. На модные нынче цветные стекольца из слюды, которые в Москве вставляли в окна вот уже давно, нужно было слишком много денег. Григорий в один из последних своих приездов предложил отцу пригласить московских стекольщиков – он уже мог сделать отцу такой подарок. Но старик заупрямился:
– Чтоб тебя видеть, мой сокол, света мне и так довольно. А если что, так свечи имеются, слава Богу, не при лучинах сижу. Дорогие столичные красоты не для меня.
– Так ведь уже и в Смоленске, почитай, все в теремах со стеклами живут, и в других городах, что ж нам-то отставать? – недоумевал Гришка. – И слюдяные мастерские нынче больно хороши стали – московскую слюду вон фряжские купцы вовсю на перепродажу стали покупать. Стоит слюда куда дешевле европейского витражного стекла, а крепка, и свет сквозь нее тоже красив. Недаром каменным хрусталем называют. Можем с цветами или с узорами заказать – красота будет – глаз не оторвешь.
– Вот помру, будет имение твое, ты для себя дом и обустраивай! – упирался старик. – Молодую жену, даст Бог, приведешь и сделаешь все, чтоб ей понравилось. А мне на баловство денег жаль.
В остальном хозяин постарался дом приукрасить: своими руками поменял доски расшатавшегося крыльца, обнес его новой оградой с резными балясинами, велел своим рукастым мужикам вырезать новые нарядные наличники.
В комнатах (внизу и наверху их было по три) тоже царил строгий, пристойный порядок. Здесь чисто мыли полы, следили, чтоб ни на подоконниках, ни на ларях, ни на столах со стульями не было и пылинки. Наверху, в большой комнате, где Дмитрий Станиславович вечерами сиживал с книгой, стояла иноземная диковина: небольшой, однако же очень изящный кабинет немецкой работы – Григорию уступил его в полцены купец из Гамбурга. В кабинете Колдырев-старший держал перья и бумагу, самые любимые книги, деньги, а в отдельном ящике – еще одну диковину, тоже сыновний подарок. То были часы, размером с гусиное яйцо. Они и имели форму яйца, открывались посредине, так что показывался лазурный циферблат с римскими цифрами. Снаружи серебряное яйцо украшали мелкий жемчуг и кораллы. Красивая витая цепочка, продетая через колечко, предназначалась для того, чтобы крепить диковину у пояса.
– В Европе это давно уже не диво! – пояснил Гриша, вручая отцу подарок. – Уж лет сто, как научились немцы делать такие часы. Их в Нюрнберге придумали, потому так и называют: «нюренбергские яйца». И носят на поясе по две штуки.
– Зачем же так много? – удивился старший Колдырев.
– Так ведь там, внутри, пружина-то не особо надежная. Потому время они показывают не совсем точно. Ну, люди и сравнивают: на одних столько, на других, скажем, лишние плюс полчаса. Вот и прикидывают, сколько на самом деле.
– Лучше б пружину понадежнее придумали… – проворчал Дмитрий Станиславович.
Однако же подарком остался доволен. Ежедневно по несколькау раз заводил «яйцо» и любил слушать, как оно тикает.
Но главным в доме отставного воеводы было оружие. В большой комнате по стенам были развешаны сабли, кинжалы, щиты, над изысканным европейским кабинетом нависал, тускло сверкая, настоящий турецкий ятаган. Меж двух наискось повешенных пищалей был пристроен диковинного вида пистоль с рукояткой, украшенной мерцающим золотистым камнем. Дотошный Григорий вызнал у знакомого московского ювелира, что камень носит красивое и загадочное название «авантюрин». Пистолей у Дмитрия Станиславовича было еще четыре, куда попроще – он развесил их над ларями, и там же, на двух кованых гвоздях, высился старый бердыш, тяжелый как бревно. А ведь в бою таким махать надо, колоть что есть силы…
Про это собрание оружия очень любил расспрашивать старика его приемыш Саша. Дмитрий Станиславович взял сироту на воспитание – неожиданно для всех и для себя самого. Едва только получив дозволение захаживать без спросу в дом хозяина, Санька бродил от стены к стене, раскрыв рот и рассматривая сабли, а бердыш как-то даже умудрился свалить. Громадина грохнулась на пол вместе с вцепившимся в нее перепуганным мальчишкой, и широкое лезвие выдрало здоровенную щепу из половицы. Санька отделался синяками – считая и тот, что остался после могучей хозяйской затрещины. Дмитрий Станиславович привязался к шустрому пареньку, но баловать его и прощать озорство не собирался.
Теперь, спустя четыре года, Саня изучил все оружейное собрание вдоль и поперек, умел чистить и заряжать пищали и пистоли, знал, как наточить саблю. И только драгоценный пистоль с авантюриновой рукояткой Дмитрий Станиславович брать не позволял. Правда, в его присутствии, вот как сейчас, можно было потрогать редкую вещицу, подержать с минуту, но заряжать, взводить курок – это боже упаси! А Саньке больше всего на свете хотелось стрельнуть именно из этого пистоля…
…Между тем Колдырев-старший спешил навстречу гостю. Подошел, сложил руки, склонился под благословение. Потом обернулся к слугам:
– Петушка, живо закуску – пирогов, если испечь успела, яблок. Вино из погреба достань, то, помнишь, что Гриша привозил. Да пару кресел тащите за ограду, в рощу! Не стоит в такой день дома сидеть. Вот гостю дом покажу, да и пойдем Днепром любоваться. Так ли говорю, батюшка?
– Так, боярин! – с улыбкой кивнул священник. – Порадовал ты меня, грешного: мне-то сказывали, будто ты которую неделю болеешь. А я пришел – ты на ногах, весел. Вот уж слава Богу!
– Так уж не исповедовать ли меня ты пришел, батюшка? Соседи наши любят напридумывать! Экие выдумщики! Так что, в дом идем, мои оружейные собрания смотреть? Или сперва посидим с тобой среди лип да винца откушаем?
– Я бы начал с трапезы. После службы пришел, так что не прогневайся, боярин: голоден и не скрываю!
Колдырев вслед за своим гостем благодушно рассмеялся.
Они уселись в душистой липовой тени, и батюшка (звали его отцом Лукианом) принялся осторожно расспрашивать хозяина о жизни деревни, о том, с какими бедами приходят к нему крестьяне, какие хвори случаются в этих местах. Колдырев все знал преотлично. Да и о хворях ведал немало, видно, на войне набрался знаний, какие да как лечить. В случае чего крестьяне шли не к знахарке, а к барину.
– Любят тебя в деревне, – улыбнулся отец Лукиан. – Я здесь всего пару дней, а уж столько слышал о тебе хорошего… А правда это, что при тебе Смоленская крепость строилась?
Старый воевода не ответил, а заместо того налил себе и священнику еще по бокалу из темной вытянутой бутыли. Вино было терпкое, крепкое, хорошей выдержки, и первый бокал уже слегка ударил в голову тому и другому.
– Пей, батюшка, пей во здравие! – воскликнул Дмитрий Станиславович, приметив в глазах гостя некоторое опасение. – Это кажется только, что с первой же чары дуреешь, но потом и мысли ясные, и ноги не подводят… Это вино сын мне привез. Венгерское. Ну, бывайте здравы…
– На здравие! – Священник перекрестился, осушил бокал и снова спросил: – А что же твой сын, где служит?
– В Москве, при дворе да при Посольском приказе, – теперь с гордостью ответил Колдырев. – Все языки уже знает, ныне вот с англичанином важным по европам катается. Как самозванец на Русь пер, так мой Гришенька в войско засобирался. А ведь не воин он у меня, скорее уж книжник… Так, знаешь, батюшка, я его отговорил. Так хотелось мне, старому рубаке, благословить сына на подвиг бранный, а подумал, что Руси он больше пользы принесет в своем приказе. Отговорил. И прав был! Прав!
Колдырев даже стукнул кулаком по столу. А потом добавил со слезой в голосе и вроде как совсем не к месту:
– Когда моя Милуша преставилась, я думал, что и сам жить не стану. Спасибо, Гришенька со мной остался!
Все-таки ему было уж под семьдесят, да и вино… вино было изрядной крепости.
Лукиан молвил с ясной, простой улыбкой:
– Бог призывает к себе человека в лучшее для него время. Не надо на это сетовать. Если человек жил светло, праведно, то уходит тогда, когда на душе у него всего светлее, чтоб мытарств меньше было, чтоб поскорее в свет окунуться. Значит, так ей лучше было, Милуше твоей, Людмиле Афанасьевне.
– Значит, так.
– Кто знает, что было бы дальше? Кто знает, что с нами будет? Не тужи, боярин!
– Теперь-то уж чего мне тужить? Одно вот горько: что с Русью-матушкой делается? Беда за бедой!
– Но уж ты-то, воевода, для обороны страны порадел. Твои заслуги всем известны…
– Вот, батюшка, ты про крепость спрашивал…
Дмитрий Станиславович умиротворенно откинулся на спинку кресла, сложил ладони на ручке трости, поднял голову к небу и чему-то хитро улыбнулся – как будто ведал некую тайну, известную лишь немногим посвященным. Солнце, пробиваясь через листву, нежарко ласкало его лицо.
– Крепость воздвигнута на века! – доложил он. – И через сто, и через четыреста лет стоять будет! Государь наш Федор Иоаннович, по совету Бориса Годунова, приказал перестроить ее по самым последним правилам фортификации. Всей Россией строили. Могу сказать, не хвастая, стремительно, за семь лет всего – воздвигли. И теперь Ключ-Город у русского царя на поясе – захочет государь, врата затворит, а пожелает – так и распахнет. И, сказывают, второй такой крепости в Европе нет!
– Верно говоришь, – кивнул отец Лукиан. – Смотрю, бывает, на нее поутру – диву даюсь: это ж сколько труда, сил и материалов затрачено! А ежели войны никакой не будет, это что же получается, это получается, зря ее возводили?..
Дмитрий Станиславович посмотрел на собеседника очень внимательно и сказал серьезно и тихо, нажимисто:
– Не зря, батюшка. Ой как не зря, уж поверь старику.
Сказав так, Колдырев замолчал.
– Ну, чувствую я, рассказывать о крепости ты не желаешь по каким-то своим причинам, и да Бог с ней, – продолжил беседу отец Лукиан. – Скрывать не буду, назначая меня в Сущево, владыко велел при случае с тобой поговорить. Прознал он недале, будто в крепостных подземельях добро какое-то государево хранится, про кое вообще мало кому ведомо. Говорят, мол, схоронено до поры что-то там в подземельях, а что да где, знаешь ты точнее всех. А, сам понимаешь, годы – многая лета тебе, воевода! – да и здравие твое… В общем, владыко Сергий просил, чтоб в духовной грамоте ты все прописал. А лучше – так заезжай к нему, да поведай. Откушаете вместе, воеводу Михал Борисыча Шеина навестишь – ты знаешь, его супружница Евдокия ох как славно пироги-то печет…
Колдырев мрачно глянул на Лукиана. Ничего старик о просьбе Смоленского архиепископа не ответил, заговорил о другом:
– К сожалению огромадному, ты, батюшка, не прав. Будет война. Слышал, ляхи вновь собираются… Сучье племя, Господи, прости. Многие у нас тут говорят – к беде дело. Вроде бы белого сокола в лесу видели.
Отец Лукиан удивленно посмотрел на хозяина, даже отнял ото рта бокал.
– Какого белого сокола?
Колдырев смутился. Надо же, священнику вздумал про всякую чертовщину рассказывать… Но, как говорят, слово не воробей.
– Да, может, и вздор все это, – с досадой проговорил старик. – Наверное, вздор. Но предание это в наших местах все знают…
…Санька, позабытый один в боярском доме, завороженно смотрел на удивительный пистоль. Дмитрий Станиславович, перед тем как выйти во двор, вновь пристроил его на крючках, но вставил его в эти крючки неплотно. Пистоль висел неровно.
– Поправить разве? – вслух прошептал мальчик…
В свои двенадцать он был не особенно высок, и с пола ему было до пистоля не достать. Санька придвинул стул, оглянувшись на окно: не видно ли с того места, где расположились трапезничать Дмитрий Станиславович со священником, его самовольства? Чтобы пистоль сел плотно на крючки, довольно было прижать его покрепче сверху. Однако Саня, сам не понимая для чего, взялся обеими руками за ствол и за рукоять и снял оружие со стены. И вот диковина у него в руках! И барина нет рядом. Можно прицелиться во что-нибудь, да вот хоть в злополучный бердыш или в песочницу, оставленную барином на верхней полке кабинета.
Кабинет!
Кабинет не заперт… А в нем, кроме всего прочего, это Санька знал точно, – лежат еще и пули. Он спрыгнул со стула, прижимая к себе вожделенное сокровище. Конечно, он сейчас повесит пистолет на место. Просто немного подержит в руках, и все.
Снова он удивился красоте этого оружия. Дуло не длинное, тонкое, потому что сделано из особенно прочного металла, по стволу – насечки непонятными буквами… Вот Гришка – тот прочитал бы. Он и читал, только Санька не понял что. А вот буквы на набалдашнике рукояти, отделанной загадочным мерцающим камнем, мальчик запомнил. MF. Санька тогда еще переспросил: точно ли так? «М»-то точно, а вот «Ф»… Вроде бы совсем другая буква. Но Григорий пояснил, улыбнувшись, что эта самая буква, похожая на «Г» с лишней палочкой посередине, в иноземных языках читается именно как «Ф». И еще он сказал, что такая насечка – это клеймо мастера.
– Паф! Паф! Паф! – Санька направлял ствол то в одну, то в другую сторону, целя по очереди в бердыш, в песочницу, в круглый щит, повешенный возле двери. – Паф! Сдавайтесь, вороги! Всех порешу! Сдавайтесь!
«Вот бы в пистоле была не одна пуля, а… а скажем, пять! – явилась к нему странная мысль. – Это ж скольких недругов разом положить можно! Дядя сказывал, так бывает, когда петарда[20] рвется: трах-тарарах, и всех вокруг убивает… Нет. Тогда ведь и дуло потребуется не одно, а пять, и как же целиться в таком разе?..»
Рукоять нагрелась, сделалась теплой, будто живой. Вернуть пистоль на место казалось слишком большой утратой. Еще немножко подержать, еще чуть-чуть. Ведь барин, надо думать, не скоро вернется в дом.
И тут у мальчишки родилась искусительная мысль: а что, коли как-нибудь, когда Дмитрия Станиславовича дома не будет, взять пистоль, уйти куда-нибудь подальше да и пострелять?
Санька понимал, что это нехорошие мысли, грешные: ну как так, без спросу утащить пистоль, которым барин дорожит пуще прочих редкостей… А ведь идти придется в лес, в чащу, не то как палить-то? А случись там, например, разбойники? Хорошо убьют, но ведь пистоль отнимут! И тогда домой не вернуться будет – уж такой вольности Дмитрий Станиславович ему не простит.
Однако искушение не исчезало, лишь крепло. Будто бы нечаянно Саня подошел к кабинету. Потянул знакомую дверцу с инкрустацией. Вон два ящичка: с порохом и с пулями. А вот и длинный ящик для запасных шомполов. Интересно, там, в загранице, откуда привезли кабинет, эти ящики для того же самого делали, или у иноземцев в них что другое лежит?..
Открыв пороховой ящичек, Санька пальцем пересчитал хранящиеся в нем аккуратные кожаные мешочки. Двадцать два. Если взять один, заметно сразу не будет… А вдруг дядя Митько вздумает их пересчитать?
Мальчик немного подумал, потом открыл еще один ящичек. Там тоже лежали мешочки, но пустые, стопкой лежали, их сосчитать куда труднее… Он взял один и, по очереди раскрывая те, в которых был порох, отсыпал понемножку из каждого. Каждый потом прилежно затянул, словно их и не трогал никто. «Свой» мешочек Санька сунул под рубаху, проверил, надежен ли пояс штанов, не потеряется ли сокровище. Потом взял из другого ящика несколько пуль. Тяжелые шарики тоже надо было куда-то девать, и Санька разжился еще одним пустым мешочком.
Итак, у него в запасе несколько зарядов. Теперь, раз уж он решился, надо повесить пистоль на место и ждать удобного случая – уедет дядя в гости, значит, можно попробовать. Ночью все же страшно…
Скорее всего, он так бы поступил – уже встал на стул, чтобы водрузить драгоценную вещь на место. Но тут на подоконник, раскинув крылья, с пронзительным клекотом упала птица. Солнце заиграло в светлом, почти белом оперении. Хищный клюв раскрылся, нацелившись прямо на Саньку.
– Сокол! – испуганно выдохнул мальчик.
И не понимая, что делает, поднял руку с пистолем. Еще недавно он спрашивал, на что нажимать… И вот его палец сам собою поймал стальной шарик, надавил.
Санька знал, что дядя никогда заряженное оружие в доме не держал, а тем паче – не мог на стене повесить. Зачем тогда нажал на шарик – никогда после объяснить себе не мог. Ну не мог пистоль быть заряжен! Не мог! Но выстрел грохнул. И грохнул так, что дрогнула все еще приоткрытая дверца кабинета. И в тот же самый миг за окном раздался звон разбитого стекла, а потом – крик и яростная ругань. Мальчик свалился со стула. Сокол исчез. Пороховой дым заполнил комнату.
Пуля, выпущенная из пистоля, угодила прямиком в бутылку, которую Дмитрий Станиславович в тот момент вновь наклонил над бокалом своего гостя. Бутылка исчезла, ее точно вырвало у него из руки, в пальцах осталось лишь узкое горлышко. Темно-красные брызги полетели во все стороны, залив светлую рубашку Колдырева, попав на лицо отцу Лукиану, забрызгав его подрясник.
– Нечистая сила! Это еще что такое?! – взревел барин.
И, обернувшись к дому, тотчас увидал в окне белое, как бумага, лицо Саньки, его вытаращенные от ужаса глаза, а в поднятой почти к самому лицу руке – злополучный пистоль.
– Ирод! Отродье сатанинское! Убью, змееныш!
В мгновение ока обратившись из степенного владельца имения в грозного вояку, Колдырев выскочил из-за стола, взмахнул тростью как саблей и бросился к воротам.
– Аспида пригрел на груди своей, убийцу окаянного! Своими руками убью, задушу паскуду!
Он бежал к дому, в бешенстве ничего не видя перед собой и не думая ни о чем.
В сознании старого солдата выстрел означал только одно: нападение!
Трудно сказать, что сделал бы Дмитрий Станиславович, сумей он сейчас же поймать маленького преступника. Но Санька, увидав в окно, как что-то красное (кровь, что же еще?!) залило баринову рубашку, и услыхав его проклятия, уже не мог ясно соображать. Сломя голову он ринулся прочь из комнаты, слетел вниз по лестнице, проскочил под носом у Колдырева – и только трость вырвала кусок травы у него за спиной. Санька добежал до ограды, вскочил на стоявшую впритык телегу, перелез на ту сторону и, не чуя под собою ног, зайцем метнулся в сторону леса.
– Стой! – орал меж тем Дмитрий Станиславович, кидаясь следом и понимая, что сорванца не догнать. – Стой, гаденыш, стой!
В ограде позади дома вообще-то была калитка, которую никогда не запирали, просто Саня, спасаясь бегством, о ней забыл.
Колдырев распахнул эту калитку, выскочил за ограду и увидел, как светлое пятно Санькиной рубашки мелькает уже возле самой опушки, как исчезает в лесу, сливаясь с солнечными пятнами.
– Стой! Сашка, стой, говорю тебе! Пропадешь, дурья твоя башка!
Но мальчик, видать, уже его не слышал.
Подбежавший отец Лукиан схватил барина за локоть:
– Послушай, Дмитрий Станиславович! Не хотел же он в нас стрелять. Верно, взял пистоль да случайно на курок нажал…
– Нажал?! А кто ему позволил хозяйским пистолем баловаться! – то ли гневно, то ли уже с отчаянием воскликнул тот. – Кто заряжать позволил?
– Дурное дело, согласен. А зачем же ты сам-то порох где попало оставляешь, так что и дите неразумное добраться может?
Священник был прав, кто ж поспорит… Но что ж теперь делать?
– Что ж с парнем будет-то, а, батюшка?
– Надобно его вернуть.
Отец Лукиан обернулся и увидел испуганные лица дворовых.
– Добрые люди! – Батюшка подошел к ним, и те невольно склонились, как будто для благословения. – Прошу вас, бегите в деревню, позовите мужиков, да побольше. Собак пускай возьмут. Я с ними пойду.
– Я тоже пойду! – вскинулся Колдырев, но поперхнулся и закашлялся, схватившись за грудь.
Отец Лукиан вновь взял его под локоть.
– А тебе, боярин, лучше сейчас в постель. Не дай Господь, захвораешь всерьез, мы все тут кругом виноваты будем. Поверь моему слову – что можем, то сделаем. Руку вот перевяжи, смотри, кровь, порезало осколками. И про просьбу-то владыки… не забудь.
19
Слово «поп» в православной России не носило никакого уничижительного оттенка, происходя от греческого pappas – «отец», «священник».
20
Петарда – взрывной пороховой заряд, мина, бомба.