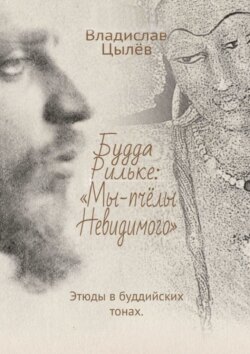Читать книгу Будда Рильке: «Мы – пчёлы Невидимого». Этюды в буддийских тонах - Владислав Цылёв - Страница 6
МЫ – ПЧЁЛЫ НЕВИДИМОГО…
Этюды в буддийских тонах – с переводами избранных мест из переписки Р. М. Рильке.
Оглавление*
Под кровом Родена
Чудовищным сводом вознес он над нами свой мир и водрузил его среди природы.
Р. М. Рильке, «Огюст Роден»
(Перевод В. Микушевича)
Всякий художник, достойный этого имени, должен выражать всю правду природы: не только внешнюю правду, но и, прежде всего, правду внутреннюю.
Огюст Роден
К 1902 году Райнер Мария Рильке, малоизвестный на тот момент, но весьма амбициозный и многообещающий литератор, автор «восьми или девяти книг», а также нескольких драм, которые, по словам самого поэта, «будучи сыграны в Берлине, снискали только ироничные отклики», подошёл, переживая тяжелый мировоззренческий кризис. Даже не верится, что после двух вдохновенных и насыщенных на события поездок поэта в Россию, по следам которых им были написаны две части восхитительного по богоискательскому накалу «Часослова», молодой человек оказался буквально на грани отчаяния: не имеющий постоянного угла, опустошенный, потерявший веру в себя, он ощущал себя «словно мертвец в старой могиле»:
Камилла Клодель. Склонившийся человек. Фотография начала ХХ века.
«Во мне нет ничего настоящего. Я снова и снова распадаюсь на части и растекаюсь» —
с горечью констатирует своё творческое бессилие поэт. Однако одна надежда всё-таки согревала его «ввергнутую в бездну заброшенности» душу: дело в том, что по счастливому стечению обстоятельств он получил заказ от одного авторитетного издательства написать книгу о своём кумире тех лет – знаменитом своём современнике, «едва ли не величайшим из всех ныне живущих» людей – скульпторе Огюсте Родене.
Как никогда обострённо нуждаясь в духовном наставнике Рильке пишет 01 августа 1902 года восторженное письмо герою своей будущей книги: поэта возбуждает одна только мысль, что в самом скором времени ему будет дано «приблизиться» к гениальному мастеру, исполинской силы творцу и, возможно, получить от него истинный совет, спасительное благословение, причаститься из «рук, творящих величие». На фоне подобной экзальтации кажется вполне естественным, что не будучи даже заочно знакомым с Роденом, Рильке называет его ни много ни мало «мой Учитель»:
«Мой Учитель,
…Я писал Вам из Хазельдорфа, что в сентябре я приеду в Париж, чтобы подготовиться к изданию книги, посвященной Вашему творчеству. Но я еще не сказал Вам о том, что для меня, для моей работы (работы в качестве писателя или, скорее, поэта), будет огромным событием приблизиться к Вам. Ваше искусство таково (я давно это чувствую), что оно умеет давать хлеб и золото живописцам, поэтам и скульпторам:
Огюст Роден. Фотография начала ХХ века.
всем художникам, которые ступили на путь страданий, не желая ничего, кроме того луча вечности, который есть высшая цель творческой жизни».
Почти с религиозной мечтательностью молодой поэт признаётся Родену в своих «ученических» чувствах к нему:
«Вся моя жизнь изменилась с тех пор, как я узнал, что Вы существуете, мой Учитель, и что тот день, когда я Вас увижу, будет поистине единственным (и, возможно, самым счастливым) из моих дней».
В воображении Рильке Роден предстаёт непререкаемым духовидцем, отцом-исповедником, перед которым неуслышанный миром поэт, добровольно избравший для себя «путь страданий», готов был излить свою душу:
«К моему огорчению, не существует перевода моих книг, чтобы я мог попросить вас бросить на них хотя бы один мимолётный взгляд; и всё же, когда я приеду, я преподнесу вам одну или две из них на языке оригинала, ибо мне важно знать, что некоторые из моих исповеданий обретут своё место среди ваших вещей, окажутся в вашем распоряжении, непосредственно рядом с вами – подобно серебряному сердцу, которое кладут на алтарь чудесного мученика».
В надежде обрести спасительное прибежище в Родене поэт пытается донести своему будущему благодетелю всю невыносимость своего безрадостного существования:
«…До чего же трагичной бывает судьба тех молодых людей, которые чувствуют, что им невозможно жить, не исполнив своё призвание – стать поэтами, художниками или скульпторами, и которые, не находя истинного совета, ввергаются в бездну заброшенности; ибо в поисках всемогущего мастера они не полагаются ни на слова, ни на информацию: они жаждут примера, горячего сердца, рук, творящих величие. Их сердца обращаются именно к Вам».
А уже 11 сентября того же года, то есть через самое непродолжительное время, Рильке с чувством полной уверенности в себе напишет своему избавителю:
«Вы помогли мне своей работой, своим словом и всеми вечными силами, Владыкой которых Вы являетесь».
Что же произошло за столь короткий срок с невротически настроенным молодым человеком, который, казалось, ещё совсем недавно был полон «ужаса перед всем тем, что, словно, в каком-то несказанном омраченье зовётся жизнью», а теперь был готов воскреснуть из мёртвых и по примеру Родена обнаружить в себе, как мы это увидим далее, бесконечные по богатству открытия, неистощимую юность и присутствие духа – счастье, обретённое в Истине?
Пробуждение. Обретение себя.
Рильке и «слова-изваяния». Коллаж на основе фотографий начала ХХ века.
В том же письме Родену всего в нескольких строчках Рильке исчерпывающе объясняет природу произошедшей с ним чудесной метаморфозы:
«Именно вчера в тишине вашего сада я обрёл себя. И теперь, когда шум огромного города стал для меня бесконечно далёким, глубокий покой царит в моём сердце, в котором высятся Ваши слова
словно статуи».
Очевидно, что Рильке с восхищением растворился в Родене, как в своём учителе, кумире-творце и обрёл под его кровом долгожданный покой. Однако, к чести поэта, через самое короткое время поэт преодолеет и эту часть своего духовного эго – роденовского «себя» – и выйдет из тени Мастера, чтобы стать ещё более прозрачным и целостным – «как бриллиант, отражающий свет Истины» – и свидетельством тому станет его невероятный творческий взлет, который откроет новую яркую страницу в его творческой биографии.
Более подробно об этих своих первых, судьбоносных и «безмерно огромных» впечатлениях, полученных на вилле Родена, Рильке поделился со своей женой Кларой в письме от 11 августа 1902 года. Вот его короткий рассказ о царившей там неповторимой атмосфере, благодаря которой поэт смог расстаться со своей «трагичной судьбой» – рассказ, который начинается вполне буднично, а заканчивается аккордом, полным восторга:
«Сегодня в девять часов утра я сел на поезд до Мёдона (это в двадцати минутах езды от вокзала «Монпарнас»). Вилла, которую Роден самолично назвал «маленьким замком» Людовика XIII-го, на самом деле не отличается красотой. У нее трехоконный фасад, выложенный из красного кирпича с желтоватым каркасом, крутая серая крыша, высокие печные трубы. А перед ней раскинулся весь «живописный» беспорядок Валь-Флери – узкой долины, в которой дома бедны и очень напоминают своих итальянских собратьев посреди виноградников. (Похоже, виноградники здесь тоже имеются судя по тому, что крутая и грязная деревенская улица, по которой проходишь, называется «Виноградной» – rue de la Vigne);
Роден и его вилла с павильоном. Коллаж на основе фотографий начала ХХ века.
затем, преодолев мост, оказываешься на другом участке дороги и проходишь мимо маленькой остерии, тоже вполне итальянской на вид. Слева – дверь. Сначала [тебя встречает] длинная аллея орешника, усыпанная крупным гравием. Затем маленькая деревянная решетчатая дверь. И еще одна маленькая решетчатая дверь. Пока, наконец, не обойдешь угол красно-желтого домика и застыв, не окажешься, лицом к лицу перед чудом – садом, созданным из камня и гипса».
Садом, который по свидетельству многих посетителей не мог не поражать воображение, ибо вмещал в себя не только уникальную коллекцию скульптора, состоящую из более чем 6000 предметов антиквариата, многие из которых были расставлены прямо под открытым небом, но и главное детище Родена – его грандиозную студию. Ещё бы, ведь в качестве загородней студии Родену служил знаменитый Pavillon de l’Alma, который был возведен в центре Парижа в 1900-ом году, и в котором с ошеломительным успехом состоялась первая персональная выставка Родена. Теперь этот прославленный павильон находился в Медоне: превращенный неутомимыми стараниями скульптора в единую рабочую среду, он в ещё в большей степени отражал самобытный характер своего демиурга:
«Его внушительный по размерам павильон, тот самый, что был представлен на выставке на мосту Альма, теперь перенесен в сад, который это строение, кажется, заполняет почти полностью – вместе с несколькими мастерскими, в которых работают резчики по камню и в которых Роден работает сам. Кроме того, здесь есть помещения для обжига глины и для всех видов ручной работы».
В мастерской Родена. Фрагмент фотографии начала ХХ века.
Как известно, в своем законченном виде студия Родена представляла собой практически стеклянную конструкцию, в невесомом и распахнутом объеме которой, со всех сторон проницаемом светом, великий скульптор словно творец из книги бытия созидал удивительно многоликую жизнь, воплощая в гипсе и мраморе свои самые смелые замыслы. Чтобы достичь ещё большего эффекта, Роден позволял своим моделям свободно перемещаться по рабочему пространству и сотрудничать с командой до двадцати различных мастеров и помощников в любой момент времени. Друзья, агенты и многочисленные ценители искусства также свободно посещали мастерские Родена, где они могли стать свидетелями первых дней творения экстраординарных для своего времени скульптур, которые по воле их непокорного создателя буквально «выламывались» из строго отведенных им академических рамок. По словам одного из посетителей
«не нужно долго озираться, чтобы понять, что находишься в рабочей среде рядом с творцом, одержимым своими идеями и почти равнодушным к окружающему миру».
Неудивительно, что Рильке не смог сдержать своё изумление, стоило ему только на миг заглянуть в глубину этого фантастически захватывающего роденовского мира:
«Безмерно огромное и странное впечатление производит этот большой светлый зал со всеми его белыми ослепительными фигурами, выглядывающими из многочисленных высоких стеклянных дверей, словно это были обитатели аквариума. Впечатление чего-то великого, колоссального. Еще до того как войдёшь, видишь, что все эти сотни жизней являют собой единую жизнь – вибрации одной силы и одной воли».
В мастерской Родена. Фрагмент фотографии начала ХХ века.
Всем своим существом Рильке почувствовал, что именно здесь, в этом невыдуманном, целостном мире, созданном гением Родена, его расколотая на части душа, обретет, наконец, желанные для себя «хлеб и золото» – именно здесь
слова-изваяния
«всемогушего мастера» научат его искусству «прозрения» настоящего – выражать всю правду природы, всю полноту реального, а не только правду частичную, экзальтированную, умозрительную, свойственную для «раннего» Рильке. Это прозрение самой сути нерасчлененного, подлинного бытия художника, творения которого можно по праву поставить в один ряд с творениями природы, поскольку и те и другие происходят из одного и того же универсального начала, окажется настолько ошеломительным для Рильке, что уже в самом скором времени он воплотит свое «более великое» видение мира в своих знаменитых «Новых стихотворениях», – цикле, в котором роденовские слова-изваяния заговорят на языке чистейшей поэзии: поэт вдохнет в них не только свои новые, «более вечные» смыслы, но и облачит их в неожиданную для словесности – «скульптурную» — форму, и даст им столь же необычное название —
«стихотворение-вещь».
Как видно, Рильке нисколько не ошибся в своих ожиданиях на счёт «чудотворных» способностей своего вдохновителя: уже при первой встрече со своим Учителем тот сумел наставить своего павшего духом ученика на истинный путь: своим непреходящим искусством, воплощенным в многочисленных работах, которые оказались красноречивее многих слов, Роден раскрыл ему секреты того, как можно жить и творить не умирая, и на своем личном примере продемонстрировал ему образ жизни великого труженика и творца – художника с «пылающим сердцем», – в котором при всём разнообразии его замыслов и доступных ему выразительных средств кипит неиссякаемый прилив творческих сил, «стекающихся
воедино».
В попытке осмыслить дальнейшие впечатления Рильке из процитированного выше письма, совсем небольшого по объёму, обращаешь внимание на то, как с каждой новой строчкой легко и непринуждённо в благодарном и созревшем ученике возникают не очередные юношеские мечтания и экстатические грёзы, а глубокие суждения Мастера, который мог бы по примеру Родена сказать о себе:
«Я ничего не придумал; я только заново открываю».
И в подтверждение этого невольно задумаешься: не напоминает ли «единственно возможное», о котором нам поведает в нижеследующих диалогах поэт, постоянство Закона, преподанного Буддой, а «более великие единства», выявлять которые призван Художник, – Истины Ума, которые вовек не будут разрушены?