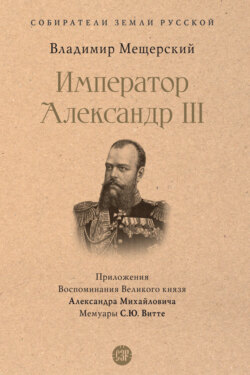Читать книгу Император Александр III - В.П. Мещерский - Страница 17
В.П. Мещерский
Император Александр III
Недавнее прошлое
ОглавлениеКогда нынешним летом проникли в общество первые слухи о болезни Государя, они встречены были не только с тревогой, но и с недоверием. Не прошло, однако, и четырех месяцев, как наихудшие опасения стали совершившимся фактом.
Конечно, не настало еще время для беспристрастной и всесторонней оценки минувшего царствования; но и теперь уже выяснилось многое, что недавно могло казаться неясным и спорным.
На какой бы точке зрения ни стояли, каких бы взглядов мы ни держались, перед нами невольно выступает значение личности почившего Государя, невольно чувствуется великий характер. О значении той или другой меры, реформы или направления можно спорить; как бы остроумны, глубоки и даже гениальны они ни были, можно не соглашаться с ними, находить их неудобными или несвоевременными, но значение личного характера Правителя непосредственно отражается на внутреннем и на внешнем положении страны, и от него зависит в значительной мере степень уважения и доверия к ней остальных государств.
Нельзя не видеть, чем мы обязаны в этом отношении покойному Государю. Только благодаря Его личному характеру и влиянию Россия без войны могла достигнуть такого положения, каким она не пользовалась после кровопролитных побед. Никто не мог заподозрить Царя в каких бы то ни было тайных завоевательных замыслах; но все знали, что он не позволит коснуться истинных интересов и истинного достоинства России.
Не во внешней политике, однако, состояла главная заслуга Императора Александра III перед Отечеством. Почти всем нам памятны те печальные дни, когда, тринадцать лет тому назад, Ему приходилось принять тяжелое бремя Самодержавной власти в такую минуту, когда, по-видимому, самое понятие об этой власти было расшатано, когда легкомысленные теоретики, не дорожившие ни прошлым, ни будущностью России, готовы были бросить ее в область рискованных экспериментов, под тем предлогом, что нет уже иного средства избавиться от смуты, которою грозила ей ничтожная горсть фанатиков анархизма.
Тот, кому пришлось пережить тревожное время семидесятых годов, особенно в Петербурге, не может теперь не испытывать странного чувства, вспоминая о нем: спасаясь от меньшей опасности, мы готовы были броситься навстречу другой, гораздо большей, и сделать ошибку, которую поправить было бы невозможно.
Но все те бедствия, которыми нам грозили и в неизбежности которых верило большинство общества, видя единственное спасение от них в слепом подражании Западу, вдруг оказались далеко не так близки и неизбежны, как это думали тогда, а то лекарство, которое предлагалось против них, едва ли не хуже самой болезни, не успевшей еще проникнуть вглубь государственного организма.
Но видеть это легко только теперь, когда движению общественной и государственной жизни дано было другое направление и когда мы отошли уже на достаточное расстояние от грозившей опасности, чтобы можно было судить более спокойно и беспристрастно о ее размерах и характере. В то время мы продолжали нестись ускоренным движением по тому пути, в конце которого, по-видимому, роковым образом являлось отрицание идеи самодержавия, а следовательно, и монархии, так как теперь едва ли уже можно сомневаться, что все остальные ее виды составляют лишь переходную ступень к совершенно иной форме политической жизни. И вот в ту минуту, когда нам грозила непоправимая ошибка, власть переходит в руки Вождя, неспособного поддаться никаким посторонним влияниям, опасениям и увлечениям и глубоко убежденного в своем призвании дать России внешний мир и обеспечить ей внутреннее спокойствие. Тогда задача казалась неразрешимою без ломки всего государственного строя – и вдруг выяснилось, что неразрешимость эта только призрачная, основанная на софизмах мнимого правового порядка и что достаточно рассечь гордиев узел этих софизмов, чтобы вернуть стране спокойствие и возможность нормальной государственной и общественной жизни; и это сделано было без громких фраз, без героических лекарств и без ломки того, что было жизнеспособного в реформах предшествовавшего царствования.
На долю Императора Александра III выпала менее блестящая, но едва ли не более трудная задача, чем та, которая досталась его предшественнику.
Императору Александру II приходилось решать вопросы, назревшие в течение многих десятилетий, он мог быть уверен не только в сочувствии, но и в содействии большинства общества при осуществлении задуманных реформ; только в самом конце царствования ему пришлось столкнуться с противодействием или, по крайней мере, с пассивным несочувственным отношением тех элементов, которые прежде видели в нем носителя собственных идеалов. При совершенно иных условиях пришлось начинать свое царствование Императору Александру III. Большинство общества не понимало его, видело в его мероприятиях только регресс, только удаление от того идеала, достижение которого уже казалось ему совсем близким. Покойному Государю приходилось одиноко прокладывать новый путь, даже среди исполнителей своих предначертаний находить не столько усердных сотрудников, сколько слуг, которые как бы нехотя и против собственных убеждений выполняли свои обязанности, – и, несмотря на это, то дело умиротворения и успокоения России, на которое он полагал все свои силы, подвигалось и крепло вопреки весьма зловещим предсказаниям завистников и недоброжелателей.
Одному из деятелей предшествовавшего царствования приписывают изречение: «С Русским народом не суетиться». Это глубоко верное правило, которое так мало применял на практике его автор, стало как бы лозунгом следующих лет, и сразу прекратились попытки перекраивать и перестраивать государство потому только, что оно не удовлетворяло требованиям того или другого ученого, или потому, что в нем оставалась возможность частных злоупотреблений, сразу стали считаться с той истиной, что недостаточно написать законы, соответствующие всем требованиям современной науки, а надо еще найти для них исполнителей.
Ни крупных завоеваний, ни крупных реформ не дало минувшее десятилетие, но оно дало больше того: уверенность в прочности и устойчивости существующего порядка и возможность всем сословиям, учреждениям и частным лицам заниматься собственным делом.
Могут сказать, конечно, что возможность эта существовала и прежде, но это было так разве только в глухой провинции, а никак не в центрах, откуда направлялась государственная и общественная жизнь и где даже самые спокойные люди не были уверены в завтрашнем дне и невольно вовлекались в водоворот политических течений. Чиновники, ученые, литераторы – все одинаково чувствовали себя в каком-то напряженном виде, переходном состоянии, и ни у кого не было спокойствия необходимого, чтобы заниматься тем, что составляло его прямую обязанность.
Правительство чувствовало ненормальность и опасность такого положения; но оно уже не могло или думало, что не может помешать этому. Сам Император, по-видимому, разделял это мнение; он лично призывал все общество к борьбе с антигосударственными и антисоциальными элементами, безумные покушения которых направлены были, очевидно, не столько против него, сколько против государства. Как же откликнулись на этот призыв то общество и те учреждения, среди которых он должен был, по-видимому, найти самый живой отголосок.
Почти иронией звучит большинство поздравлений с двадцатипятилетием благополучного царствования, где нет и в помине об этом призыве. Не только деятельной помощи правительству в борьбе с общим врагом, но также громкого негодования на этого врага общество не выражало, продолжая близоруко мечтать об увенчании здания, когда самый фундамент его то и дело подкапывался.
В таком настроении застал нас громовый удар 1 марта. Сознало ли, по крайней мере, тогда общество все легкомыслие и всю преступность своей нейтральности? Нет, оно только на минутку как будто ошеломлено было неожиданностью и скоро снова заняло свое прежнее положение, даже с более оппозиционным оттенком. К счастью для России и для самого общества, оппозиция эта оказалась совершенно бессильной перед мощною волей и ясным сознанием цели Императора Александра III.
Он не только ничего не уступил этой оппозиции, но как будто и не замечал ее. Ответственный за дела свои перед одним Богом, Он дорожил лишь свидетельством собственной совести. Не сразу могли оценить современники значение такого характера. Сколько злобных инсинуаций, сколько тупого непонимания окружало все Его действия, особенно в начале царствования. Нельзя не упомянуть по этому поводу об одной из первых мер, смысл которой не только не был понят, но часто извращался самым нелепым образом.
Переезд Государя Императора в Гатчину не был только переменой резиденции, обусловленной соображениями личного характера: это была важная государственная мера, все значение которой стало ясно только впоследствии.
Личная безопасность главы государства слишком тесно связана со спокойствием страны, чтобы Он мог рисковать жизнью, не рискуя и этим спокойствием; никакие соображения иного характера не могут перевесить для того, на ком лежит ответственность самодержавной власти, этой тяжелой обязанности, для выполнения которой требуется несравненно больше мужества, чем то, которое нужно для самых героических подвигов на поле сражения.
Никакие меры предосторожности не в состоянии были предотвратить катастрофу 1 марта. Общество предчувствовало ее, ожидало ее и жило изо дня в день под Дамокловым мечом опасности, беспрерывно менявшей свои формы.
Переезд Императора Александра III в Гатчину сразу создал другое положение вещей. Конечно, и там нельзя было считать покушение абсолютно невозможным; но зло утратило характер ежеминутной близости и неизбежности. Явилась возможность думать и заботиться о текущих делах без постоянного опасения, что все эти заботы через несколько дней или часов окажутся совсем бесполезными.
Вместе с тем получился другой, не менее важный, результат. Рядом с относительною уверенностью в безопасности главы государства явилась возможность более правильной государственной и частной деятельности в столице, и население могло вздохнуть свободнее.
Г. С. Сергеев. Гатчинский дворец. XVIII в.
Какое значение, в самом деле, могли представлять безопасность и интересы частных лиц, когда ежеминутно ставились на карту спокойствие и безопасность Империи? Какое преступление могло удивить в то время, когда среди белого дня, в центре города, шеф жандармов становился жертвой ловкого убийцы, когда взрывался Зимний Дворец, покушение следовало за покушением и присяжные не знали уже, кого они судят – обвиняемого или потерпевшего?
И вот это ненормальное положение вещей в столице, деятельность которой долго была парализована, сразу было устранено переездом Высочайшего Двора в Гатчину. Переезд этот был, конечно, одним из многих актов, клонившихся к восстановлению нормального течения жизни в Империи, и невозможно в беглом очерке проследить их последовательно, но во всех многочисленных и разнообразных мерах, преследующих эту цель, есть одна общая черта: это совершенная простота. Полное отсутствие всего, что сколько-нибудь било бы на эффект.
Эта простота сама по себе уже есть несомненный признак великой и нравственной силы; только такая сила не ищет никаких посторонних прикрас и не боится являться такою, как есть. Чуждый всякой мысли о популярности, Император Александр III не словом, а делом хотел выполнить свое призвание и заслужить любовь своего народа и уважение Европы, не какими-либо внешними подвигами, а тем глубоким сознанием правды, которое составляло руководящую нить всей его жизни и всей его деятельности.
Замечательная чуткость к жизненной правде во всех ее видах заставляла Государя особенно ясно сознавать противоречия между этою действительностью и тою формальною правдой, которая всюду творилась от Его имени. «Журнал Министерства Юстиции» прекрасно обрисовывает эту черту почившего Императора: «Всегда строгое отношение покойного Государя к уклоняемым от закона, – говорит он, – умерялось только в случаях отсутствия злого умысла и личных побуждений, или при стечении тягостных обстоятельств, которые быстро оценивала его необычайная чуткость к нравственному и бытовому характеру дела, и самая законность представлялась верховному законодателю Русской земли не как бездушная условная форма, без жизненного морального содержания, а как действительный оплот и живая охрана всего честного, разумного и полезного».
Эта особенность отразилась на всей законодательной деятельности минувшего царствования. Законодатель не спешил вводить коренных преобразований, стараясь только исправить то, что действительно требовало исправления, и лишь тогда, когда обнаруживалось явное противоречие между положительным законом и действительной правдой, значение которой он так глубоко чувствовал, только тогда приступал он к изменению этого закона. Так это было при введении в действие Положения о земских начальниках, когда для всякого предубежденного человека стало ясно, что правосудие в селах существует только на бумаге, и то не всегда; так это было и с Высочайшим повелением 7 апреля прошлого года о пересмотре Судебных Уставов.
«То был последний предсмертный призыв Монархом судебных деятелей к самопроверке и совершенствованию, – читаем мы в том же журнале, – призыв этот навсегда будет величайшим памятником мудрой Его попечительности о русском суде».
Святым завещанием звучат нам незабвенные слова, начертанные 7 апреля текущего года на всеподданнейшем докладе министра юстиции: «твердо уверен в необходимости всестороннего пересмотра наших Судебных Уставов, чтобы, наконец, действительное правосудие царило в России. Итак, с Божьей помощью, начинайте эту трудную работу».
Именно в этой возможности и согласовать закон с действительной правдой, и восстанавливать эту правду, если она случайно заслоняется буквой закона, состоит великое значение самодержавия, и в это значение глубоко верил покойный Император.
Л. Тихомиров прекрасно характеризовал Его как носителя идеала самодержавия. Только для характеров мелких и легкомысленных власть сама по себе может казаться чем-то привлекательным; но для таких людей, как Император Александр III, она является тяжелою обязанностью, от которой они не могут отказаться, и которою они не вправе даже делиться с другими. Это бремя не они выбрали, но они должны нести его до конца.
Трудно найти в истории другого правителя, который бы с такой простотой и с таким ясным сознанием долго оставался верен своему служению до последнего дня своей жизни.
Значение такого характера не могло не отразиться и далеко за пределами нашего Отечества; если бы мы усомнились в собственном беспристрастии и в тех бесчисленных знаках сочувствия, которые доносятся к нам из Франции, – вот голос человека, незаинтересованного в процветании и могуществе России: «Не мое дело, – замечает лорд Розбери, – говорить об отношении Императора к Его собственной Империи; но мы имеем право беспокоиться об Императоре в его отношении к иностранным державам, а мы имеем в нем Монарха, которого девиз, которого царствование и которого характер состояли в почитании истины мира. Я не говорю, что Он будет поставлен на ряду с Цезарями и Наполеонами в истории, с теми великими завоевателями, которыми история занимается, может быть, чересчур много. Но если мир имеет свои победы, не менее знаменитые, чем победы военные, то Император Всероссийский имеет не менее право на место в истории, чем Наполеон и Цезарь».