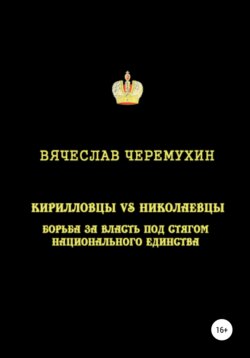Читать книгу Кирилловцы vs николаевцы: борьба за власть под стягом национального единства - Вячеслав Черемухин - Страница 2
Глава I. Народ эмиграции: какой он?
ОглавлениеРусская эмиграция формировалась не одновременно и не равномерно на всей территории русского рассеяния. Основные центры русской эмиграции в Европе и на Дальнем Востоке привлекали всех вынужденных уехать из России беженцев, в этих же местах происходило формирование и кристаллизация общественных и политических организаций, которые стали в геометрической прогрессии возникать в русской эмиграции. В данном случае следует отметить, что эмиграция распределялась как на основе социально-экономических условий, так и на основе закрепившихся старых связей эмиграции со своими родственниками. Последнее наиболее характерно для представителей аристократии, которые в массовом порядке прибывали на территорию бывшей Германской империи. Несмотря на то, что после Ноябрьской революции 1918 года Император Вильгельм II отрекся от престола, после чего последовало отречение от престолов представителей местных династий, некоторые прерогативы для проживания здесь местных аристократов все же сохранялись. М.Е. Ерин об этих событиях в Германии писал следующее: «Повсюду в Германии исчезали старые династические властители, без большого сопротивления, почти добровольно. Это бесшумное исчезновение респектабельных институтов было событием, которое поразило многих современников. Да и падение самой монархии Гогенцоллернов произошло в одночасье, обыденно, быстро, под натиском массового недовольства. Под бременем войны монархическое государство власти полностью уничтожило свою легитимность»24. В этом же вопросе следует обратить внимание на то, что несмотря на падение монархии, для Германии (Веймарской республики) не был характерен процесс национализации имущества «буржуазного класса». Кроме того, несмотря на революционные изменения, немецкие дворяне и аристократия практически не покидали своих родовых имений. Это характерно также для бывших правящих (и медиатизированных25) династий. Баварские Виттельсбахи, Вюртемберги, Гессены, Гогенлоэ-Лангебург и другие частично сохранили свое имущество (некоторые резиденции были национализированы и стали собственностью государства, как правило, превращены в музейные комплексы) и продолжали проживать в своих резиденциях, при этом сохраняя определенный авторитет в обществе, которым когда-то правили26. Для Романовых представители таких династий были прежде всего родственниками, которые так или иначе общались с ними или же предоставляли им кров (пусть и на непродолжительное время) во время изгнания. Так, характерным примером «семейной взаимовыручки» стал переезд Вдовствующей Императрицы Марии Федоровны (датской принцессы по рождению) на место жительство в Копенгаген, где правил ее племянник король Кристиан Х (1912-1947). Об остальных членах фамилии следует сказать чуть подробнее позже. В данном случае мы всего лишь рассмотрели ориентиры для представителей бывшей правящей династии России.
Исследователи также отмечают, что не только для высшей аристократии, но и для представителей придворного ведомства, а также титулованной аристократии проживание на территории Веймарской республики было вполне логичным с точки зрения родственных связей. Бобринские, Кочубеи, Долива-Долинские, Орловы, Мятлевы, Енгалычевы, Немировичи-Данченко и другие проживали в основном на территории Германии. Некоторые изменения в местах проживания аристократической эмиграции произошли уже после 1923 года. Другая часть аристократической части беженцев перебралась на территорию Франции, в числе коих – представители высших аристократических домов: Трубецкие, Оболенские, Голицыны, Шереметевы и др. Во Франции такой близкой связи между титулованными родами практически не было, несмотря на большое количество аристократов во Франции. По сохранившимся же воспоминаниям эмигрантов можно сказать, что сюда ехали как в наиболее стабильную страну, причем некоторые ехали сюда на съемные квартиры и виллы, владельцами которых они стали еще в довоенное время. Проживание для эмигрантов во Франции стало комфортным только после 1923 года, после Капповского путча в Германии и стремительного обесценивания германской марки.
Катрин Гусефф отмечает, что для западного общественного мнения было характерно понимание эмиграции сквозь призму их социального положения. Несмотря на утверждения Верховного комиссара Лиги Наций по делам беженцев Ф. Нансена, на женевской конференции 26 августа 1921 года, о том, что «беженцы принадлежат к различным слоям дореволюционного российского общества, и все они в разной мере подготовлены к испытаниям, которые выпали сегодня на их долю», в целом общественное мнение западных стран было склонно считать эмигрантов «представителями обеспеченных слоев рухнувшей империи, и прежде всего – верной престолу аристократии» 27. Характерна общая склонность историков преувеличивать преданность аристократии престолу, которая не было уж такой «верной» в действительности, как утверждают некоторые историки. Обращает на себя внимание важное отличие отношения аристократии к монархии в Европе и России. Исследователями фактически доказано, что в России именно аристократия противостояла трону, в то время как в Европе она чуть ли не до последнего защищала существовавший строй. В целом же общество за рубежом представляло эмиграцию достаточно сплоченно. При этом значительный контраст наблюдался как в сфере образования эмиграции, где две трети имело полное среднее образование, чуть более 15% высшее, 12% закончило военные училища, а около 5% и вовсе не имело образования, так и в финансовом и материальном положении беженцев.
24
Ерин М.Е. Кайзер Вильгельм II и крушение Германской империи. // ФРАНЦИЯ – РОССИЯ, 1914-1918 гг.: от альянса к сотрудничеству: Материалы франко-российского коллоквиума, 15-16 сентября 2014 г., г. Ярославль. / Перевод под руководством К.В. Игнатьевой. – М.: Политическая энциклопедия, 2015. С. 95.
25
Появление этих династий приходится на конец XVIII – начало XIX века, когда происходила реорганизация административных единиц на территории Священной Римской империи германской нации, что привело к уменьшению количества государственных образований и переходу отдельных династий на службу к представителям других династий при формальном сохранении статуса равенства их друг другу.
26
Характерный пример приводит в своих воспоминаниях Великая Княгиня Мария Павловна-мл., которая говорит о жизни бывшего Великого Герцога Гессенского и Прирейнского Эрнста Людвига, брата Императрицы Александры Федоровны и Великой Княгини Елизаветы Федоровны, а также первого супруга Великой Княгини Виктории Федоровны, супруги Великого Князя Кирилла Владимировича: ««Как частное теперь уже лицо он по-прежнему пользовался уважением бывших подданных, был свободен в передвижениях, а главное, его и семью оставили в стране, в родных пенатах. Правда, окружающая обстановка потускнела». Великая Княгиня Мария Павловна. Мемуары. – М.: Захаров, 2014. С. 416.
27
Цит. по: Гусефф К. Русская эмиграция во Франции: социальная история (1920-1939 годы). – М.: Новое литературное обозрение, 2014. С. 47-48.