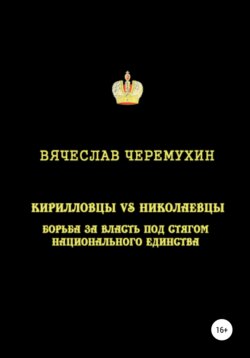Читать книгу Кирилловцы vs николаевцы: борьба за власть под стягом национального единства - Вячеслав Черемухин - Страница 6
Глава I. Народ эмиграции: какой он?
Почему опыт Франции следует учесть?
ОглавлениеНа наш взгляд, такое жесткое разделение по отношению к форме правления будет характерно для политического строя Франции второй половины XIX века. С 1871 года, когда Франция стала республикой, именно дискуссия о форме правления в будущем, а также синдром проигранной войны Германии, фактор национального унижения со стороны извечного соперника были основными факторами, определяющими облик французского избирателя, который приводил в национальное собрание определенные политические партии. Именно тогда во Франции существовали наиболее крупные лагеря республиканцев и монархистов. К первому лагерю относились радикальные республиканцы, республиканцы-оппортунисты. К ним примыкали представители либерального течения. К правому же лагерю относились бонапартисты и монархисты, причем последние делились на орлеанистов и легитимистов. Ниже нами приводятся три схемы, которые наглядно демонстрируют партийно-политический состав Национального Собрания Третьей Республики по итогам парламентских выборов 1871, 1876 и 1877 гг.
В начале ХХ века в России существовало два крупных направления: республиканцы и монархисты. Вполне понятно, что данный подход можно подвергнуть сомнению в том смысле, что взгляд на форму правления не дает права точно относить представителя конкретного идеологического лагеря к этой группе. Однако на протяжении XIX – начала ХХ века именно выбор формы правления – первостепенная категория, которая определяла того или иного политика по политическому спектру.
Обратим внимание на Францию на заре Третьей Республики, когда шли достаточно острые дискуссии о будущей форме правления при маршале П. де Мак-Магоне, герцоге Маджента (1873-1879), когда сам президент являлся монархистом по политическим взглядам. Тогда в политическом спектре республики было несколько партий (по выборам в Национальное Собрание 1871 года): роялисты (легитимисты и орлеанисты), бонапартисты, либералы, республиканцы-оппортунисты и радикальные республиканцы. Выборы 1871 года показали, что у большинства жителей Франции преобладают правые взгляды. Данное собрание работало до 1876 года. Тогда уже на выборах с огромным преимуществом победили республиканцы, тогда как правые не получили и половины мест в парламенте. Причиной столь резкой смены взглядов избирателя стали дискуссия и голосование о форме правления во Франции. По итогам голосования с незначительным перевесом в несколько голосов победили республиканцы. Принятая республиканская конституция не предполагала даже возможности для пересмотра формы правления. Сами же монархисты с этого момента достаточно быстро сходят с политической арены (во всяком случае, из публичной политики). Существование отдельных правых кружков, политических групп продолжалось, однако их участие в политике минимально. Национальное Собрание не по политическому спектру, а по своей идеологии становится республиканским.
В России начала ХХ века наблюдалась похожая ситуация в политической практике. С созданием Государственной Думы в 1905 году и ее первым созывом в 1906 году в стране появился первый в ее истории парламент европейского образца. В силу того, что в стране существовал монархический строй, в общем и целом идеология самого парламента строилась на монархических устоях. Однако революционность Дум I и II созыва в 1906-1907 гг. показывает обратную ситуацию. Парламент фактически не помогает правительству, а противостоит ему. Существование же «монархического» по идеологии (и парламентскому большинству) парламента приходится лишь на период III и IV созыва. Причем оговоримся, что в силу нарастания революционных настроений в 1914-1917 гг. Дума IV созыва может считаться монархической по духу в целом, ведь идея полного упразднения монархии не была важна для политиков даже в первые дни «великой бескровной».
Составленная нами схема пытается также продемонстрировать, как политические группы меняли свое местоположение относительно формы правления. В данной схеме мы попытались отразить, пусть на данный момент и достаточно неполно, схему идеологической эволюции. На настоящий момент эту схему нельзя считать до конца доработанной, но суть идеологической трансформации российской политической элиты на протяжении последних предреволюционных лет, Гражданской войны и годов изгнания она отражает.
Именно в годы Гражданской войны и эмиграции в среде интеллектуалов начинают зарождаться планы будущего переустройства страны63. Наиболее острые дискуссии, как отмечается во всех исследованиях, происходили именно тогда, когда решался вопрос о политическом будущем России после победы над большевиками. Именно тогда в правом лагере русской эмиграции возникает целый ряд течений, которые нуждаются в их детализации.
В декабре 1920 года российский политик-эмигрант В.Д. Набоков написал вполне характерную статью, опубликованную в берлинской газете «Руль». Статья получила название «Мы и они (история русской эмиграции)». В ней публицист выступил как историк революционных дней 1917 года, отметив, что после февральских событий никаких беженских волн с территории России не возникает, а возникают они лишь с 1918 года, когда разразилась и набирала мощь Гражданская война. Отразив некоторые тенденции разрастания волн эмиграции после поражения белых сил на всех фронтах в 1919 году и «Крымской катастрофы», В.Д. Набоков отметил весьма характерную деталь: «в… потоках беженцев уже нет возможности найти единство политических взглядов или какую-либо определенную классовую принадлежность. И вместе с тем нет ни возможности, ни логического, ни морального основания проводить какую-либо грань, принципиально разделяющую ушедших от оставшихся»64. Данная позиция будет отвечать идеям русской эмиграции. Знаменитое изречение Н.Н. Берберовой «Мы не в изгнании, мы – в послании» схоже с утверждением, данным в 1920 году Набоковым. В другой своей статье В.Д. Набоков рассмотрел положение русских правых. Он, в частности, писал, что монархическое объединение, которое собиралось в Берлине, пыталось показать на основе своих партийных лозунгов, что возврата к старым дореволюционным порядкам нет, звучит лишь «единение царя с народом». «…в этой фразеологии мы ясно слышим те старые-престарелые мотивы, которым первые славянофилы подыскивали идейную основу, а впоследствии деятели Союза русского народа использовали их для борьбы против стремления к правовому строю»65. Но в то же время русский политик замечает, что данная формулировка имела своей целью совершенно другую идею – объединить монархистов-абсолютистов и монархистов-конституционалистов. Интересную характеристику социальному составу русской эмиграции в Берлине дает дипломат Випер фон Блюхер: «Русская эмиграция в Берлине представляла собой пирамиду, от которой сохранилась только ее верхушка»66
Вопрос, однако, оставляет за собой множество проблем. Когда 29 марта 1922 года во время собрания по случаю лекции П.Н. Милюкова в Берлине был убит В.Д. Набоков, разные представители русской эмиграции отнеслись к этому события неоднозначно. Большую часть эмигрантской общественности охватила некоторая ненависть к ультраправым. Н.В. Савич зафиксировал в дневнике: «…это убийство, сделанное руками оголтелых правых, на руку левым и антирусски настроенным сферам. Практически это покушение сделает невозможным изъятие из обращения большевистских главарей, проживающих за границей, и даст повод для новых гонений на весь эмигрантский лагерь, особенно на монархическое в нем течение. Услужливый дурак опаснее врага»67. Интересно, что на это событие отреагировали и большевистские органы печати. Так, берлинский «Новый мир» за 31 марта 1922 года открылся передовицей «Черносотенные “террористы”». В статье отмечалось: «Убитый В.Д. Набоков был вождем того крыла кадетской партии, которое, по существу, ничем не отличается от монархистов. Это крыло поддерживает Врангеля и его армию…». И далее давалась трактовка событий в Берлине: «Настоящие монархисты убивают почти монархистов и конституционных монархистов. Эмигрантская белогвардейщина дошла до последней черты своего морального и политического падения»68. В данном случае не совсем ясно определение «настоящих» монархистов. Скорее всего, авторы просто вложили стереотипное понимание образа монархиста как человека реакционных взглядов, готового пойти даже на крайние меры, чтобы избавиться от тех сторонников монархической идеи, которые еще не совсем до нее «созрели». Однако верно была передана суть – грань между конституционными и «настоящими» монархистами заметно стиралась.
Здесь стоит сделать некоторое отступление. Конституционно-демократическая партия (кадеты, Партия народной свободы) к этому времени уже значительно трансформировалась с момента революции 1917 года. Появление кадетов в эмиграции, в частности в Берлине, приходится еще на июнь 1920 года с прибытием группы партийных деятелей в составе примерно 30 человек во главе с И.В. Гессеном69. Как отмечает Шелохаев, на изменения в сферах внутри партии (идеология, организация и т.д.) влияло несколько проблем. Во-первых, вынужденная разобщенность по странам эмиграции; во-вторых, иллюзии о падении власти большевиков, которые питали некоторые члены кадетской партии; и, в-третьих, неопределенность в своем будущем70. По мнению Н.И. Канищевой, период с мая 1920 года (т.е. с появления Пражской и Парижской группы партии) до июля 1921 года следует считать периодом «интенсивного организационного устроения» кадетов. Уже позднее, в 1921-1924 гг., в рядах кадетской партии начнутся процессы, которые будут еще больше разделять партию: выделение новых политических групп (в частности, Республиканско-Демократической группы или объединения под руководством П.Н. Милюкова). Своей идеологической эволюцией в сторону правых кадеты показывали, что они разрушали русский либерализм71. Наиболее активными, после появления Парижской группы партии, стали члены Берлинской. Однако политический активизм здесь более всего основывался на действиях И.В. Гессена, А.И. Каминки, но особенно В.Д. Набокова, убийство которого повлекло за собой резкое падение активности действий группы в Германии. Кроме того, близость с правыми делала кадетов ближе к конституционным монархистам. По сути, они и составили крыло конституционалистов. О некотором характере их идеологии писал Б.А. Евреинов. Он отмечал, что как «группировка партийная», конституционалисты «не многочисленны и не влиятельны. Их оттесняют, с одной стороны, более определенные и темпераментные правые соседи, с которыми роднит их общность социального лица, а с другой, большие группы монархических по своему существу, но не говорящих открыто и прямо о своем монархизме»72. Вокруг П.Н. Милюкова формировались левые силы кадетов. Они продолжали стоять на позициях республиканизма с федеральным устройством. Главным положением «новой тактики» П.Н. Милюкова, которая была рассмотрена на парижском совещании в мае-июне 1921 года, являлся отказ от реставраторских тенденций. Это утверждение значительно отдаляло левых кадетов даже от своих однопартийцев. В результате на совещании произошел раскол. Появились внурипартийные группы: старотактики, центристы и новотактики73. Последние оказались в явном меньшинстве по отношению к остальным. Причем интересно, что основной раскол произошел между членами Парижской группы, где были образованы комитеты старотактиков во главе с Н.В. Тесленко и новотактиков во главе с П.Н. Милюковым. Большая часть групп в Белграде, Берлине, Варшаве, Константинополе и Софии придерживалась старой тактики, а в Праге и Гельсингфорсе были лишь отдельные сторонники старотактиков, не оформивших создание партийных «ячеек». Таким образом, старотактики придерживались позиции сохранения партийных рядов. Следует отметить также, что во время Гражданской войны кадетская партия прошла некоторые этапы эволюции: от попытки восстановления организационного и идеологического единства на основе неприятия большевизма и поддержки союзников в 1918 году; всецелой поддержки курса Белого движения в 1918-1919 гг. до перехода всех партийных структур за рубеж в 1920-1921 гг. При этом большую часть времени члены партии в годы войны тратили на внутренние идеологические и организационные споры между однопартийцами, при отдельных малозначимых попытках участвовать в политической деятельности. Согласованности позиций и выступлений во время боевых действий между кадетами также не было. «Единство партии исчезло», – отмечают отечественные специалисты. Разительные противоречия внутри партии по ключевым политическим вопросам стали дополнительными факторами, обусловившими изменение позиций кадетов. Все это в целом привело к расколу партии в 1921-1922 гг.74
63
Подробн. см.: Вандалковская М.Г. Прогнозы постбольшевистского устройства России в эмигрантской историографии. 20-30-е гг. XX в. – М.–СПб.: Институт российской истории РАН, Центр гуманитарных инициатив, 2015.
64
Набоков В.Д. До и после Временного правительства: Избранные произведения / Сост. и предисловие Т. Пономаревой. Прим. Т. Пономаревой, Г. Глушанок, В. Старка. – СПб.: Издательство «Симпозиум», 2015. С. 374.
65
Там же. С. 405.
66
Цит. по: Шлёгель К. Берлин, Восточный вокзал. Русская эмиграция в Германии между двумя войнами (1918-1945). / Пер. с немецкого Л. Лисюткиной. – М.: Новое литературное обозрение, 2004. С. 143.
67
Савич Н.В. После исхода. Парижский дневник: 1921-1923. – М.: Русский путь, 2008. С. 213.
68
Черносотенные «террористы». // Новый мир (Берлин), 31 марта 1922г.
69
Шелохаев В.В. Конституционно-демократическая партия в России и эмиграции. – М.: Политическая энциклопедия, 2015. С. 701.
70
Там же. С. 701-702.
71
Бочарова З.С. Феномен … С. 209.
72
Евреинов Б.А. Указ. соч. С. 233.
73
Шелохаев В.В. Указ. соч. С. 712.
74
Цветков В.Ж. Белое дело в России. 1919-1922 гг. (формирование и эволюция политических структур Белого движения в России). Ч. I. – М., 2013. С. 422-423.