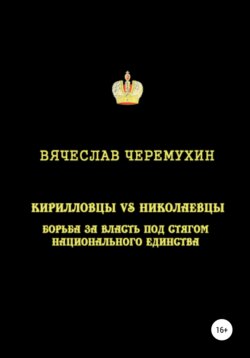Читать книгу Кирилловцы vs николаевцы: борьба за власть под стягом национального единства - Вячеслав Черемухин - Страница 4
Глава I. Народ эмиграции: какой он?
Политики и рядовые граждане: почему эмиграция решила объединяться?
ОглавлениеМожно сказать, что тенденция к объединению эмигрантов формировалась на двух принципах:
во-первых, объединение «снизу» объясняется желанием сохранить свою идентичность, которое сопровождается решением проблем адаптации в странах проживания;
во-вторых, объединение «сверху» как фактор политический было основано на идее объединения эмигрантов на идеологических основаниях с целью сохранить возможность отдельным эмигрантам заниматься политической деятельностью, а в целом создать лагерь активных противников большевиков.
Можно даже отметить, что если объединение по форме принадлежности к тому или иному рабочему и профессиональному признаку сопровождалось идеей выживания, то объединение на политической платформе поддерживало идею продолжения борьбы эмигрантов с большевизмом. Армия же находилась на особом положении в эмиграции. Она оказалась наиболее сплоченным организмом, т.к. была организована соответствующими уставами о военной службе.
Так как фактически большая часть аристократии, чинов придворных ведомств, членов Государственной Думы, министерств и ведомств относились к членам правящей фамилии, главным местом их притяжения стала Германия (Веймарская Республика), для которой были весьма характерны реваншистские тенденции в это время. Либеральное и социалистическое (Партия социалистов-революционеров организовала в эмиграции зарубежную делегацию) крыло эмиграции находилось по большей части в Париже.
Фактически описанная нами общая ситуация с расселением беженцев и появлением диаспор в отдельных странах Русского Мира говорит о создании определенной общности, которую с натяжкой можно называть «народность» эмиграции. В эту народность вне зависимости от политических взглядов фактически включены представители всех сословий, из которых состояла эмиграция. На формирование данной народности фактически повлиял их внутренний мир и мировоззрение, которое основано на традиционных ценностях, а также приверженности к общей истории России. И возвращаясь к ранее поставленному вопросу об этничности, обратим внимание, что данный фактор практически никак не постулировался самими эмигрантами. Вынужденное разделение между представителями национальных меньшинств бывшей империи фактически произошло еще в годы Гражданской войны, а в эмиграции сами национальные диаспоры фактически никак, за редкими исключениями, не сталкивались друг с другом, ведь даже интересы национальных групп исходили из других оснований.
Российский Зарубежный Съезд 1926 года стал проявлением второго из названных нами выше принципов, который предлагал объединять русскую эмиграцию на основе новой политической идеологии. Это и была попытка объединения «сверху». Первая тенденция здесь оказала лишь сопутствующую поддержку. Такой политической идеологией, которая, с одной стороны, могла учитывать опыт революции и событий Гражданской войны, но в тоже время не отвергала всего, что до революции 1917 года было наработано отечественными консервативными мыслителями, публицистами и политиками, стал либеральный консерватизм. Чтобы понять, как происходила эволюция к данной платформе эмиграции до ее официального провозглашения со страниц эмигрантской газеты «Возрождение» в июне 1925 года, следует обратить внимание на то, какие течения русской правой общественности прибыли в эмиграцию. Идейная эволюция платформы русского либерального консерватизма после падения монархии в России – важнейший из элементов становления русской политической эмиграции.
Один из лидеров русских конституционных демократов, известный историк, в эмиграции лидер Республиканско-Демократического Объединения, редактор газеты «Последние Новости» П.Н. Милюков в 1926 году писал: «Было принято считать в демократической печати: 85% эмигрантов являются сторонниками монархии и только 15% могут считаться республикански настроенными»56. Убежденный противник монархической власти, прошедший радикальный путь собственной эволюции на протяжении революции и Гражданской войны, Павел Николаевич Милюков стал в эмиграции одним из наиболее ярых противников «правого» крена в Русском Зарубежье. Тяжелые отношения у Милюкова сложились с П.Б. Струве, с которым на страницах эмигрантской периодики он часто вел достаточно острые дискуссии на темы политической обстановки в эмиграции. Однако его оценку сторонников монархии следует признать весьма убедительной. Еще в августе 1921 года Еженедельник Высшего Монархического Совета сообщал, что «Съезд в Рейхенгалле объединил уже значительно более ста тысяч русских монархистов»57. Учитывая, что уже в следующем 1922 году более 85 организаций русской эмиграции приняли платформу ВМС, этот тренд прослеживается уже с 1921 года, и следует признать оценку современников правильной. Уже тогда отмечалось, что «для успеха монархического дела нужно, чтобы было достигнуто объединение, дисциплина и организация. Объединение достигнуто в Рейхенгалле; дисциплина достигнута фактом существования Высшего Монархического Совета и привычкой исполнять общие директивы. Организация невозможна без организации составления объединенных частей»58. Однако говорить об объединении правых сил в эмиграции под одним знаменем все же неправомерно. Как отмечает Н.В. Антоненко, до революции право-монархические организации и партии (Русское Собрание, Русский Народно-Монархический Союз Михаила Архангела, Союз Русского Народа, Всероссийский Национальный Союз и др.) имели всесословный характер. Как видно из наиболее полного списка активных участников российского монархического движения в начале ХХ века, составленного ведущими специалистами по истории правого движения, в составе монархических организаций были крестьяне, ремесленники, аристократы, большое количество лиц духовного звания и т.д.59 В эмиграции основой для возрождения правого движения стали представители высших аристократических семейств и чиновничества, «монархические настроенные офицеры белых армий, разочаровавшаяся в демократических ценностях русская либеральная интеллигенция»60. По мнению исследователей (в частности, Н.В. Антоненко), монархически настроенная часть эмиграции разделилась на несколько лагерей:
крайне правые, которые ставили своей целью обязательное восстановление монархии в виде самодержавия в «неизменном виде»;
центральную часть право-монархического лагеря в эмиграции занимали общественно-политические течения и клубы, на настроение которых влияла ситуация в Советской России;
левый фланг русской эмиграции занимали «бывшие либералы» (правые кадеты), которые были настроены на восстановление монархии с ее модернизацией под изменившиеся условия.
Однако, применяя данную логику к политическому процессу в эмиграции, мы рискуем потеряться в течениях правого лагеря. Член Республиканско-Демократического Союза Б.А. Евреинов в 1930-е давал следующую расстановку сил в эмиграции справа налево: реставрационно-монархическую, непредрешенческо-монархическую, демократическую и демократическо-социалистическую61. Он справедливо отмечал, что количество сторонников крайне правых было достаточно невелико, а превалировали деятели непредрешенческого направления. Исходя из этого, следует не согласиться с позицией Н.В. Антоненко. Наличие «группы центра» в монархическом лагере не соответствует логике идеологической эволюции. Н.В. Антоненко утверждает, что на мнение именно этой группы влияло положение в Советской России. Однако это влияло на все направления внутри эмиграции без исключения. Таким образом, подход Антоненко в этом моменте стоит подвергнуть сомнению. П.Н. Базанов выдвигает свой вариант политического разделения лагеря правых. В его трактовке следует разделять монархическую часть эмиграции по нескольким уровням:
деление на «германофилов» и «франкофилов» «в зависимости от ориентации на получение помощи России»;
деление по принципу отношения к будущей форме монархии: самодержавное, конституционное и парламентарное;
деление по принципу разделения на «предрешенцев» и «непредрешенцев»;
деление по принципам работы: культурно-просветительской работы («фиолетовых») и активных действий («активизм»)62.
В данном случае нам кажется правомерным поддержать точку зрения П.Н. Базанова в силу четкости тех критериев, которые были им выбраны в качестве «точек отсчета». Мы в свою очередь хотим предложить достаточно спорную, но в данном случае другую точку отсчета, по принципу партийно-политической работы.
56
Милюков П.Н. Эмиграция на перепутье. Париж, 1926. С. 6.
57
Высший Монархический Совет. Еженедельник. №2. 21 августа 1921г.
58
Съезд монархистов-конституционалистов. // Высший Монархический Совет. Еженедельник. №7, 25 сентября 1921г.
59
Руководители и активные участники русского монархического движения (1901-1922). // Правая Россия. Жизнеописания русских монархистов начала ХХ века. Сост. А.А. Иванов, А.Д. Степанов. – СПб., 2015. С. 663-716. Антоненко Н.В. Идеология и программатика русской монархической эмиграции. Мичуринск, 2008. С. 9.
60
Антоненко Н.В. Указ. соч. С. 9.
61
Евреинов Б.А. Лицо политической эмиграции. / Публ. Е.П. Серапионовой. // Культурное и научное наследие русской эмиграции в Чехословацкой республике: документы и материалы. – М.; СПб.: Нестор-История, 2016. С. 228.
62
Базанов П.Н. Издательская деятельность политических организаций русской эмиграции (1917-1988 гг.): 2-е изд., испр. и доп. – СПб., 2008. С. 118-119.