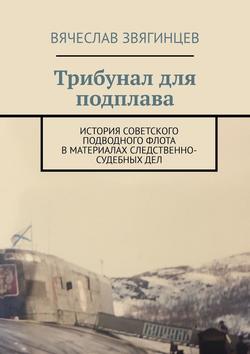Читать книгу Трибунал для подплава. История советского подводного флота в материалах следственно-судебных дел - Вячеслав Егорович Звягинцев - Страница 3
Часть 1. «Контрреволюционный» подплав
1. Удар «Пантеры» (дело А. Н. Бахтина и др., 1927 г.)
ОглавлениеАлександр Николаевич Бахтин по праву занимает достойное место среди первопроходцев подводного флота России. Его имя стоит в одном ряду с лейтенантами Н. А. Гудимой, С. Н. Васильевым, С. Н. Белкиным, И. Н. Ризничем и др.
А. Н. Бахтин родился 4 июня 1894 года. Отец его был известным петербургским педагогом, одним из основателей детского театра (в будущем – знаменитого ленинградского ТЮЗа). В 1914 году Александр окончил Морской кадетский корпус, стал мичманом, в 1916 году – подводный офицерский класс. В годы войны он служил вахтенным начальником на подлодке «Кайман» и старшим офицером на ПЛ «Волк». Затем стал её командиром.
На «Волке» Бахтин совершил 8 боевых походов, в ходе которых было потоплено четыре вражеских транспорта. Причем, 17 мая 1916 года эта легендарная лодка под командованием И. В. Мессера уничтожила сразу три германских транспорта («Гера», «Кольга» и «Бианка»), став самой результативной подлодкой России. Весь экипаж был награжден тогда орденами и медалями. А. Н. Бахтину вручили орден Святой Анны 4 степени с надписью «За храбрость».
Вскоре после революции А. Н. Бахтин уволился с флота по собственному желанию, ходил по морям капитаном торгового судна. Но в ноябре 1918 года возвратился в РККФ и получил под свое командование подводную лодку «Пантера»14.
Балтийский флот в то время был ослаблен как никогда. Лишь немногие корабли и подлодки могли выходить в море. Англичане же вели себя в Финском заливе как полновластные хозяева.
ПЛ «Пантера» оказалась одной из немногих боеспособных лодок, укомплектованной профессионалами своего дела. Помощником командира был А. Г. Шишкин15, минером Г. Г. Таубе16, штурманом А. И. Берг17, о деле которого нам еще предстоит рассказать. Опытными были рулевой Ф. М. Смольников, минный машинист Ф. В. Сакун18 и др.
Позднее Шишкин вспоминал о знаменитой атаке, произведенной «Пантерой» 31 августа 1919 года: «Резкий звонок. Боевая тревога… Лучшие специалисты „Пантеры“ заняли наиболее ответственные посты. На горизонтальных рулях стоял Ф. Смольников. Подлинный мастер своего дела, он умел как „по ниточке“ вести лодку на заданной глубине. Стрелка глубиномера была неподвижна, когда Смольников стоял на вахте… У носовых и кормовых торпедных аппаратов наготове стояли минные машинисты В. Авдюнин и Н. Журков, на центральном посту у приборов управления торпедной стрельбой – старейший минный машинист лодки Ф. В. Сакун»19.
Два вражеских эсминца были обнаружены А. Н. Бахтиным около 18 часов. Они стояли на якорях у острова Сескар. «Пантера» маневрировала около трех часов, пока не заняла удобную позицию для стрельбы торпедами. Сближение с противником затрудняли малые глубины, песчаные банки и большое волнение моря. На атакующий курс Бахтин вывел лодку с северо-запада, подойдя к английским эсминцам из-за острова, со стороны заходящего солнца, что обеспечивало маскировку. В 21 час 16 минут командир отдал команду и с дистанции 4 – 5 кабельтовых лодка произвела залп, поразив двумя торпедами «Витторию», один из новых эскадренных миноносцев Англии. Через несколько минут он был уже на дне.
Несколько вражеских кораблей и гидросамолетов начали преследовать «Пантеру», сбрасывая противолодочные глубинные мины и производя стрельбу ныряющими снарядами. Уклоняясь от огня, лодка ударилась о грунт и получила повреждения. Но Бахтин, продолжая маневрировать, все-таки сумел оторваться от преследования и, пройдя под водой почти 80 миль, благополучно возвратился в Кронштадт.
Субмарина находилась в подводном положении, без регенерации воздуха, более 28 часов – случай до этого невиданный. Бахтин установил тогда своего рода рекорд для подводных лодок типа «Барс». А потопление эсминца «Виттория» оказалось не только первой, но и единственной в годы гражданской войны победой подводников.
Экипажу была объявлена благодарность и предоставлен трехдневный отпуск. Потом решили каждому вручить по новой кожаной куртке. А 3 декабря 1919 года 18 участников потопления эсминца были награждены от имени Петроградского Совета именными серебряными часами. Летом 1922 года знаменитую лодку посетил Председатель ВЦИК М. И. Калинин и делегаты III Конгресса Коминтерна. Сам Бахтин в этом году за восстановление Балтийского флота был удостоен учрежденного на Балтике звания «Герой труда». А в следующем году к его трем царским орденам добавился советский орден Красного Знамени. Он получил эту награду первым из советских подводников.
После знаменитой атаки жизнь и служба у Бахтина складывались в целом неплохо. Он командовал подлодками «Форель» и «Тур», возглавлял дивизион подводных лодок, находился на преподавательской работе. Был начальником подводного офицерского класса, написал учебник «Управление подводными лодками. Курс для командного состава флота», а также несколько статей, опубликованных в журналах «Морской сборник» и «Красный флот»20.
В аттестации А. Н. Бахтина говорилось: «Является одним из выдающихся знатоков подводного дела, имеет большой боевой и практический стаж»21.
В 1926 году Александр Бахтин окончил Военно-морскую академию, был назначен командиром отдельного дивизиона подводных Морских сил Черного моря. А через месяц после переезда в Севастополь… его арестовали.
Дело №7455 в отношении моряков Балтийского флота было одним из самых крупных в то время. Всех их арестовали в 1926 году, а 28 февраля 1927 года 23 подсудимых предстали перед судебной коллегией ОГПУ по обвинению в создании на флоте контрреволюционной военно-монархической организации.
В протесте Главной военной прокуратуры по этому делу, составленном в 1956 году в связи с проведением реабилитации 22-х осужденных22, говорилось, что «вопреки требованиям закона были объединены в одно производство дела на ряд лиц, действия которых не имели между собой никакой связи», и с материалами дела эти лица «ознакомлены не были»23. Другими словами – не все из них даже знали, в чем их обвиняют.
Объединяло арестованных лишь одно обстоятельство – все они являлись бывшими морскими офицерами Российского императорского флота. После Октября 1917 года большинство перешли на службу в РККФ. Так, на момент ареста бывший капитан I ранга П. Ю. Постельников служил в Ленинградском военном порту, капитан II ранга К. В. Вонлярлярский – начальником отдела штаба Морских сил Балтийского моря, мичман Н. Л. Вартенбург – командиром 1-го дивизиона эсминцев, лейтенант Е. С. Велецкий – командиром учебного судна «Комсомолец», мичман Н. Ф. Оболенский – флагштурманом бригады траления и заграждения, мичманы С. А. Ловцов и В. Б. Лесгафт – командирами эсминцев. В Москве «взяли» бывшего капитана II ранга Ф. В. Васильева, проходившего службу начальником минного отдела технического управления РККА и сотрудника того же управления бывшего лейтенанта А. И. Борячинского. Капитан I ранга Н. А. Арбенев, инженер-механик Г. М. Назаров, лейтенант А. П. Дулов после революции уволились с флота и работали на разных предприятиях г. Ленинграда. Бывший мичман В. В. Дашкевич «занимался садоводством в г. Николаеве»…
По версии следствия, которое вели Виролайнен и Косицкий, уполномоченные 5-го контрразведывательного отделения полпредства ОГПУ в Ленинградском военном округе, все лица, арестованные по делу №7455, занимались в 1918—1926 годах контрреволюционной деятельностью в период в 1918 по 1926 годы. Отдельным фигурантам было также инкриминировано наличие несанкционированной командованием переписки с заграницей и проведение антисоветской агитации.
На самом деле, как свидетельствуют материалы этого и других изученных автором архивных дел того периода, в абсолютном большинстве случаев бывших офицеров репрессировали не за реальные противоправные действия, а лишь за их принадлежность к социально-чуждому классу. Под контрреволюционностью понимались политическая неблагонадежность, подозрение в сочувствии идеям, подрывающим существующий государственный строй, «контрреволюционные настроения» и зафиксированные секретными сотрудниками антисоветские разговоры.
Так, Николай Фотиевич Оболенский был арестован за то, что на одной из вечеринок, именуемых следователями «сборищами», «исполнил гимн «Боже, Царя храни». А командир минного заградителя «25 октября» Сергей Иванович Сперанский – за то, что устраивал на своей квартире эти самые «сборища бывших морских офицеров, на которых имели место антисоветские проявления».
Большинство арестованных назвал в качестве членов контрреволюционной организации К. В. Вонлярлярский. Позже будет установлено, что его показания не соответствовали действительности, в том числе в отношении репрессированных по делу №7455 подводников. Так, Вонлярлярский назвал своим соучастником А. В. Томашевича. Однако, когда последний был ему предъявлен для опознания, он не смог его опознать. В отношении А. Н. Бахтина Вонлярлярский утверждал на допросе, что тот, «как член руководящей тройки», в начале 1923 года приезжал к нему по делам контрреволюционной организации, и уточнил, что запомнил его по ордену на груди. Между тем, как говорилось в протесте прокурора, «Бахтин был награжден орденом Красного Знамени приказом РВС СССР от 4 октября 1923 года и, следовательно, Вонлярлярский в начале 1923 года не мог видеть у него этот орден»24.
В том же протесте утверждалось, что, согласно справке тюремного врача от 3 сентября 1926 года, Вонлярлярский в период дачи показаний на Бахтина и других страдал психастенией, и у него наблюдалось угнетенное состояние.
А. Н. Бахтина арестовали в Севастополе 20 августа 1926 года. Он прибыл в штаб Черноморского флота за месяц до ареста, сменив в должности арестованного в том же году командира черноморского дивизиона подводных лодок H.H. Головачева25.
Александр Николаевич Бахтин был обвинен в том, что в 1918 году, во время Ледового похода, ушел с подлодки и остался в Финляндии, где дал финнам согласие поработать у них в качестве инструктора подводного плавания. А затем трудился капитаном парохода в артели «Транспортное трудовое товарищество»», организованной бывшими офицерами.
А. Н. Бахтин на допросах категорически отверг все предъявленные ему обвинения. Хотя не отрицал, что некоторое время, после увольнения с флота, действительно работал капитаном парохода в артели «ТТТ». Но она являлась не контрреволюционной, а обычной коммерческой организацией, созданной по инициативе адмирала А. В. Развозова26 для трудоустройства увольняемых офицеров. По поводу оставления подлодки в Гельсингфорсе Бахтин заявил на допросе, что действительно ему было сделано предложение остаться в Финляндии в качестве инструктора подводного плавания, поскольку финны предполагали закупить у советского правительства подлодки, и он считал, что это предложение согласовано с нашей стороной…
28 февраля 1927 года судебная коллегия ОГПУ приговорила к 10 годам концлагерей В. В. Атрепьева, Ф. В. Васильева, К. В. Вонлярлярского, В. В. Дашкевича, П. Ю. Постельникова, С. В. Федорова, А. А. Хвицкого и С. А. Хвицкого. 14 человек, в том числе А. Н. Бахтин, а также упомянутые Н. Ф. Оболенский и С. И. Сперанский получили от 3 до 5 лет лагерей. Командир эсминца «Железняков» В. Б. Лесгафт был осужден к ссылке в Сибирь на 3 года.
Вместе с А. Н. Бахтиным по делу №7455 проходил еще один орденоносец – Сергей Александрович Хвицкий. В 1920 году он командовал Азовской флотилией и был награжден орденом Красного знамени за разгром под Бердянском врангелевского флота (7 вымпелов, включая миноносец «Звонкий»).
С. А. Хвицкий, помимо общего для всех обвинения в контрреволюционной деятельности, был обвинен в том, что «присутствуя на одном из сборищ бывших морских офицеров, по просьбе хозяйки снял имевшийся у него орден»27.
Надо сказать несколько слов и о двух других моряках-подводниках, проходивших по одному делу с Бахтиным. Это А. В. Томашевич28 и Ю. В. Пуарэ29.
А. В. Томашевич на момент ареста, произведенного в мае 1926 года, служил флагманским минером бригады подводного плавания Балтийского флота. Он был осужден на 3 года концлагеря, а затем, по отбытии наказания, на основании постановления ОГПУ от 10 июня 1929 года его выслали в Сибирь еще на три года30.
Между тем, в Морском словаре, изданном уже в начале XXI века, о тюремной одиссее Томашевича нет ни слова. Есть лишь короткая фраза: «В 1926 – 1933 годах был в запасе»31.
Как уже сказано, обвинение Томашевича было основано исключительно на противоречивых показаниях Вонлярлярского, который на допросе 16 июня 1926 года показал, что встречался с ним как с одним из руководителей военно-монархической организации. Сам Томашевич категорически отрицал свою вину.
А. В. Томашевич, один из немногих подводников, чья пост-гулаговская судьба сложилась удачно. Он стал контр-адмиралом, доктором наук, был удостоен пяти орденов и Сталинской премии. Его называют крупным специалистом, разработавшим и внедрившим в практику новый метод торпедной стрельбы. Возглавляя длительное время кафедру тактики подводных лодок, А. В. Томашевич воспитал не одно поколение советских подводников, к его советам прислушивались конструкторы при проектировании новых кораблей.
Другой выдающийся российский подводник, осужденный по делу №7455 – Юлий Витальевич Пуаре. В годы 1-й Мировой войны он проходил службу на ПЛ «Аллигатор». На Красном флоте он командовал ПЛ «Пантера», «Минога», «Волк» и др. В 1922 году был удостоен звания Героя труда отдельного дивизиона подлодок (ОДПЛ) Балтийского моря. В 1925 году занимал должность начальника 2-го дивизиона подводных лодок.
В приказе начальника ОДПЛ Балтийского моря Я. К. Зубарева отмечалось, что Ю. В. Пуарэ «является одним из наиболее опытных и испытанных работников нашего подводного дела…, неизменно вносил в нашу трудную и ответственную работу большую любовь к делу, неизменную инициативу, постоянное стремление к усовершенствованию методов и способов использования лодок и громадную, заражавшую других энергию и работоспособность»32.
На момент ареста, произведенного 27 мая 1926 года, Юлий Витальевич Пуарэ занимал должность начальника класса подплава спецкурсов усовершенствования комсостава РККФ. Он также был приговорен коллегией ОГПУ к 3 годам концлагеря за то, что «в 1918 году имел связь с английским офицером Ф. Кроми» и «поддерживал связь с заграницей, где проживала его сестра».
Пуарэ пояснил следствию, что его связь с заграницей «состояла только в том, что его мать получала денежную помощь от своей дочери», а с Френсисом Кроми, которого он знал с 1916 года как офицера-подводника, «встречался только во время катания на коньках в Ревеле (Таллин)»33.
В мае 1929 года Ю. В. Пуаре был освобожден из лагеря и выслан на 3 года в Коми АССР. 13 апреля 1932 года он погиб вместе с женой в кораблекрушении на Белом море34.
В отношении большинства осужденных по делу №7455 коллегия ОГПУ вынесла позже дополнительные постановления. Так, Г. М. Назарову 28 марта 1931 года срок содержания в концлагере был продлен еще на три года, Н. Л. Вартенбурга и Н. Ф. Оболенского по отбытии наказания выслали в Северный край на 3 года каждого, ряд лиц лишили права проживания в крупных населенных пунктах.
Что касается А. Н. Бахтина, то ему постановлением коллегии ОГПУ от 5 декабря 1927 года заключение в концлагере было заменено высылкой в село Березово Тобольской губернии сроком на 3 года, а постановлением коллегии от 30 апреля 1929 года он был досрочно от отбытия наказания освобожден35.
Из заключения Бахтин возвратился с подорванным здоровьем. 15 июня 1931 года он скончался в возрасте 37 лет.
Имя героя-подводника было забыто и на долгие годы вычеркнуто из истории. В 1954 году его жена, Ольга Петровна, подала в центральные органы власти, в том числе в Главную военную прокуратуру, ряд жалоб, в которых просила пересмотреть дело мужа. Она писала, что Бахтин возвратился из ссылки тяжело больным и вскоре скончался от туберкулеза, а их дети, дочь и сын, погибли в блокаду.
Определением Военной коллегии от 29 сентября 1956 года дело в отношении А. Н. Бахтина и других осужденных было прекращено за отсутствием в их действиях состава преступления36.
А. И. Берг писал о герое-подводнике: «А. Н. Бахтин был выдающимся моряком, убеждённым и талантливым подводником, очень умным и образованным человеком и высоких качеств. Он много читал, отлично знал историю флота, морскую технику. Команда его любила за честность и прямоту, правдивость и смелость – он всегда был спокоен и внушал к себе доверие подчинённых. Это был один из наиболее преданных и образованных советских офицеров того времени»37.
14
ПЛ типа «Барс» была спущена на воду в 1916 г. (с 1923 г. – «Комиссар», с 1934 г. – Б-2). Предельная глубина погружения —100 м; вооружение – 4 трубчатых и 8 торпедных аппаратов системы Джевецкого. Экипаж 33 человека.
15
Александр Григорьевич Шишкин – капитан 1 ранга, в 30-е годы командовал ПЛ «Звезда», преподавал в УОПП.
16
Генрих Генрихович Таубе – в 30-е годы первый командир ПЛ «Декабрист», начальник штаба бригады ПЛ, командир 3-го дивизиона ПЛ Морских сил Балтийского моря. В 1934 году погиб при взрыве на ПМЗ «Сталинец» (Л-2).
17
Аксель Иванович Берг – инженер-адмирал, крупный ученый в области радиоэлектроники. Незадолго до описываемых событий был назначен командиром ПЛ «Рысь» и на ПЛ «Пантера» пришел новый штурман – А. И. Краснов. О следствии по делу А. И. Берга – в главе 4.
18
Фёдор Викентьевич Сакун – капитан 1 ранга, в 30-е годы минер 25-го дивизиона ПЛ КБФ. 20 июля 1938 г. арестован по обвинению в шпионаже, в феврале 1939 года дело было прекращено. Участник Великой отечественной войны.
19
Цит. по: Губин Г. Н. Щетинин В. В. (сост.) В океанских глубинах – подводный флот (сборник). М. Голос-Пресс. 2003.
20
Одна из статей называлась – «На „Пантере“ в гражданскую войну».
21
Цит. по: Галутва И. Г. «Он был убежденным и талантливым подводником…» (на сайте: https://pandia.ru/text/80/243/34056.php).
22
Протест в отношении вахтенного механика линкора «Октябрьская революция» С. В. Федорова был внесен позже – в 1958 году.
23
Надзорное производство Главной военной прокуратуры (далее – НП ГВП) №56277—39. с. 25.
24
НП ГВП №56277—39. с. 31.
25
Николай Николаевич Головачев (1889—1928) – командир отдельного дивизиона ПЛ ЧФ. Арестован 4 мая 1926 г. по обвинению в связях с иностранными служащими консульств. Осужден 24 января 1927 г. коллегией ОГПУ по ст. 58—4 и 58—10 УК РСФСР к 10 годам лагерей. Умер в лагере 6 октября 1928 г. Реабилитирован Прокуратурой Республики Крым в 1996 г.
26
Александр Владимирович Развозов (1879 – 1920) – военно-морской деятель, в 1917 г. – контр-адмирал, командующий Балтийским флотом.
27
НП ГВП №56277—39. с. 35.
28
Анатолий Владиславович Томашевич (1895 – 1960) – в РККФ проходил службу флагманским минером бригады ПЛ Балтфлота. С 1933 г. – преподаватель УОПП и ВМА. В годы войны – старший инспектор по подводному плаванию 2-го отдела Управления подводного плавания ВМФ, занимался разработкой наиболее эффективных методов стрельбы торпедами с ПЛ.
29
Юлий Витальевич Пуарэ (1894—1931) – в годы 1-й Мировой воевал на ПЛ «Акула» и «Аллигатор». С апреля по сентябрь 1918 г. командовал ПЛ «Пантера», «Минога», был командиром дивизиона. В 20-е годы командовал дивизионами ПЛ на Черном и Балтийском морях, был командиром ПЛ «АГ-25», «Волк».
30
НП ГВП №56277—39. С. 22, 30, 40.
31
Словарь биографический морской, СПб, 2001, с. 384.
32
На сайте: http://pkk.memo.ru/letters_pdf/001731.pdf.
33
Ю. В. Пуаре в годы 1-й Мировой войны был прикомандирован к английской ПЛ «Е-9», находившейся в оперативном подчинении Российского императорского флота, и не мог знать, что английский подводник Френсис Кроми имел отношение к военной разведке, поскольку тот перешел на службу в это ведомство только в 1917 г.
34
Буксир «Нева», на котором Ю. В. Пуарэ был капитаном, попал в сильный шторм при следовании из Архангельска на Соловки. Пуаре организовал спасение пассажиров, но по причине отсутствия запасной шлюпки остался с женой на тонущем судне. Жена Пуарэ, М. А. Пургольд, также была осуждена коллегией ОГПУ в 1927 г. на 3 года концлагерей.
35
НП ГВП №56277—39. с. 40.
36
Надзорное производство военной коллегии (далее – НП ВК) №4н-08651/56.
37
Цит. по: Галутва И. Г. Указ. соч.