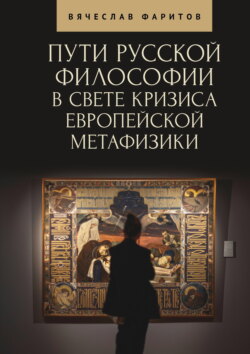Читать книгу Пути русской философии в свете кризиса европейской метафизики - Вячеслав Фаритов - Страница 10
Глава 1
Кризис европейской метафизики: Ницше и русская религиозная философия
1.3. Генезис идеи кризиса европейской метафизики и культуры в учении молодого Ницше
1.3.1. В поисках метафизики: античность сквозь призму философии Шопенгауэра и музыки Вагнера
ОглавлениеПрежде всего, следует поставить вопрос, чего же, собственно, так недоставало Ницше в современности, чего он в ней не находил или находил слишком мало и в исключительных случаях? Здесь мы введем положение, обоснование которого будет представлено в дальнейшем: несмотря на всю разрушительную критику метафизики, развернутую философом в более поздние периоды своей деятельности, натуре Ницше, всему его существу присуща метафизическая потребность. Фундаментальная проблема «экзистенции» Ницше состоит в том, что со своей метафизической потребностью он жил в одну из самых неметафизических эпох. К XIX столетию период метафизического творчества европейской культуры остался далеко позади. Ницше застает метафизику то ли умирающей, то ли уже умершей, что констатирует в заметках 1872–1873 гг.: «Метафизика невозможна. Самооскопление (Metaphysik unmöglich. Selbstcastration). Трагическая резиньяция, конец философии (Die tragische Resignation, das Ende der Philosophie). Философия со времен Канта мертва (Philosophie seit Kant todt)».[74] Обратим внимание: невозможность метафизики для Ницше равнозначна самооскоплению (в сфере культуры) и концу философии – ни больше не меньше. Конец метафизики и смерть философии в европейской культуре у Ницше связывается с именем Канта, в античности – с именем Сократа. Впоследствии взгляды философа по этому вопросу будут меняться, уточняться, но общая направленность сохранится.
Здесь же обращает на себя внимание следующий ход: из трагической ситуации конца философии молодой Ницше находит пока только один выход: «Спасти нас может только искусство (Nur die Kunst vermag uns zu retten)».[75] Ницше искал и находил спасение – в искусстве Вагнера, услышанного и понятого через философию Шопенгауэра. В этом пункте – ключ, код к пониманию ницшевской реконструкции античности. Тезис, что Ницше понимал античность сквозь призму вагнеровской музыки, а не наоборот, подтверждается уже самой первой записью осени 1869 года: «Тот, кто сегодня говорит или слышит об Эсхиле, Софокле, Еврипиде, невольно думает о них прежде всего как о поэтах, представителях литературы, ведь он знаком с ними по книгам, читал в оригинале или в переводе: но это приблизительно то же самое, как если бы кто-то говорил о Тангейзере, имея в виду либретто и ничего другого. Об этих мужах древности следует говорить не как о либреттистах, а как о композиторах, сочинявших оперы».[76] Вот ключевое слово, исходный пункт, зерно, из которого вскоре вырастет «Рождение трагедии». Греческие трагики – как оперные композиторы («als Operncomponisten»). Правда, Ницше сразу же оговаривается, что «по сравнению с античной музыкальной драмой наши оперы и есть всего лишь карикатуры».[77] Но здесь следует спросить, где и когда слышал молодой Ницше античную музыкальную драму, чтобы судить о современных операх как о карикатурах? В качестве филолога он работал как раз с книгами, читал античных трагиков в оригинале. Но помимо библиотек Ницше посещал еще и театр, где он слышал (на этот раз мы можем не сомневаться, что действительно слышал) оперы Вагнера, одну из которых не преминул упомянуть в рассматриваемом нами фрагменте.
Придет время, когда Ницше будет сравнивать Вагнера с Бизе и даже с Оффенбахом – и в обоих случаях не в пользу Вагнера. Но это еще впереди, пока молодой Ницше именно в Вагнере находит спасение от утратившей метафизическую составляющую современности. Важно, что Вагнера Ницше понимает метафизически-шопенгауэриански. Последнее было не сложно, поскольку и сам Вагнер в определенный период испытал влияние Шопенгауэра. Так закладывается основное направление мысли Ницше в этот период: метафизика Шопенгауэра, спроецированная на оперу Вагнера, задает парадигму для реконструкции античной трагедии и античной философии.
Следует отметить, что и в ранний период Ницше не был простым последователем Шопенгауэра, лишь находящим некое приложение его философии. Уже молодой Ницше подвергает метафизику Шопенгауэра определенной переработке. Направленность этой переработки – преимущественно эстетическая. Если у Шопенгауэра метафизика выступает фундаментом как эстетики, так и этики, то у Ницше наблюдается тенденция к эстетизации самой метафизики. Искусство, согласно Ницше, порождает видимость, иллюзии, делающие жизнь и существовании возможными. Истина как таковая скорее враждебна и губительна для жизни. Искусство как видимость, таким образом, становится трансцендентальной предпосылкой существования. Характерно при этом, что и воля, которая у Шопенгауэра относится к сфере кантовской вещи в себе, у Ницше перемещается в сферу явлений: «Вопреки Шопенгауэру воля – форма явления».[78]«Сама воля есть ничто иное, как видимость и Праединое является только в ней» (der Wille nichts als Schein selbst ist, und das Ureine nur in ihm eine Erscheinung hat).[79]
В этом переосмыслении основоположений шопенгауэровской метафизики обнаруживаются сразу две тенденции, характерные для мысли Ницше. С одной стороны, базельский профессор пытается спасти ставшую невозможной метафизику посредством придания ей эстетического характера. Если после Канта метафизика становится невозможной как наука, как познание, то можно еще попытаться найти путь к Пра-единому (Ureine) через сферу художественного. В каком-то смысле этот путь был намечен у самого Канта в «Критике способности суждения», затем был разработан Шопенгауэром в его эстетике. Однако, с другой стороны, у Ницше уже в раннем периоде творчества наблюдается тенденция к отказу от метафизики в пользу эстетики. В данном случае речь уже идет не об эстетизации метафизики (в чем у Ницше были предшественники), но о превращении эстетики в самодовлеющее онтологическое учение без метафизики (т. е. без трансцендентного). Так, одно из наиболее характерных высказываний в этом направлении обнаруживает принципиальную амбивалентность мысли Ницше: «Жизнь возможна лишь благодаря художественным иллюзиям» (Das Leben nur möglich durch künstlerische Wahnbilder).[80] Можно прочитать этот тезис в ключе «артистической метафизики»: «möglich» (возможно) в данном случае будет означать онтологическое условие или трансцендентальную предпосылку существования. Но есть и иной вариант прочтения, в котором «möglich» будет подразумевать не онтологическую возможность, но выносимость, оправданность. Здесь речь идет уже не об обнаружении фундаментальных оснований бытия, но о придании существованию смысла через художественные иллюзии (durch künstlerische Wahnbilder). В контексте дальнейшего развития мысли Ницше именно эта неметафизическая тенденция станет преобладающей. Но уже сейчас, в 1870–1871 гг. Ницше все больше склоняется в сторону выхода за пределы метафизики как таковой: «Моя философия – это перевернутый платонизм: чем больше мы удаляемся от истинного бытия (vom wahrhaft Seienden), тем чище, прекраснее и лучше. Жизнь в мире иллюзии (im Schein) как цель».[81]
Еще раз проследим весь ход развития мысли Ницше в рассматриваемый период. В ситуации кризиса европейской метафизики Ницше сначала пытается найти возможность спасения самой метафизики. Но уже в начале своего пути приходит к осознанию тщетности подобного предприятия. Тогда философ обращается к искусству. В сторону эстетизации метафизики его подталкивает эстетика Шопенгауэра. Но практически сразу эстетический аспект берет верх над метафизическим. Ницше все больше склоняется к выводу, что сфера художественного творчества не столько открывает глубинные первоосновы бытия, сколько скрывает их, делая тем самым жизнь возможной в значении оправданности и переносимости. Иллюзия, видимость (Schein) не ставится на место бытия (Sein), но оценивается выше, чем бытие. Характерно, что в «Рождении трагедии» тезис «Жизнь возможна “möglich” лишь благодаря художественным иллюзиям» преобразуется в следующую формулировку: «существование и мир навеки оправданы только как эстетический феномен».[82](«nur als ästhetisches Phänomen ist das Dasein und die Welt ewig gerechtfertigt»).[83] Здесь «möglich» уступает место «gerechtfertigt», «возможно» заменяется на «оправдано». Оправдание – категория уже не метафизическая, но либо этическая, либо эстетическая. Несмотря на это, в «Рождении трагедии» Ницше все еще продолжает говорить о метафизике. Данное обстоятельство обусловлено в большей степени языковой инерцией, сама мысль Ницше, как было показано, движется уже в ином направлении.
Что касается греков, то они оказались как нельзя более кстати ввиду основной задачи, которую Ницше ставит перед собой как философ и преподаватель: «Истинная цель – воспитание для борьбы с современностью».[84] Шопенгауэр и Вагнер на поверку оказались современными в большей степени, чем ожидал от них молодой Ницше. Из греков в соратники для борьбы с современностью Ницше избрал наиболее древних, т. е. наиболее удаленных и наименее освоенных современностью. Из греческих философ Ницше отдает предпочтение досократикам, т. е. тем, от наследия которых сохранились преимущественно отдельные фрагменты и упоминания. Такой материал оставляет наибольший простор для философских реконструкций.
74
Ницше Ф. Полное собрание сочинений: В 13 томах. Т. 7: Черновики и наброски 1868–1873 гг./Ф. Ницше. – М.: Культурная революция, 2007. – С. 466–467.
75
Там же, С. 466.
76
Там же, С. 9.
77
Там же.
78
Там же, С. 326.
79
Там же, С. 119.
80
Ницше Ф. Полное собрание сочинений: В 13 томах. Т. 7: Черновики и наброски 1868–1873 гг./Ф. Ницше. – М.: Культурная революция, 2007. – С. 184.
81
Там же, С. 185.
82
Ницше Ф. Полное собрание сочинений: В 13 томах. Т. 1/1: Рождение трагедии. Из наследия 1869–1873 годов / Ф. Ницше. – М.: Культурная революция, 2012. – С. 43.
83
Nietzsche F. Gesammelte Werke / F. Nietzsche. – Köln: Anaconda Verlag GmbH, 2012.-S. 34.
84
Ницше Ф. Полное собрание сочинений: В 13 томах. Т. 7: Черновики и наброски 1868–1873 гг./Ф. Ницше. – М.: Культурная революция, 2007. – С. 242.