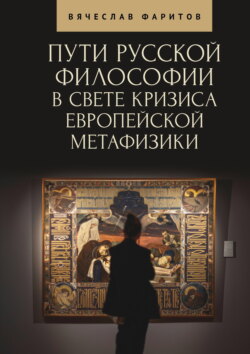Читать книгу Пути русской философии в свете кризиса европейской метафизики - Вячеслав Фаритов - Страница 11
Глава 1
Кризис европейской метафизики: Ницше и русская религиозная философия
1.3. Генезис идеи кризиса европейской метафизики и культуры в учении молодого Ницше
1.3.2. Человек античный и человек современный
ОглавлениеОбраз античного человека у Ницше также представляет собой позитивный негатив человека современного. Античный человек оценивается выше современного, но именно современный человек выступает в качестве того пункта, отталкиваясь от которого конструируется образ античного человека. Хотя молодой Ницше еще продолжает использовать язык метафизики, вопрос о первоначале уже в этот период для него разрешен в своей принципиальной неразрешимости и одновременно непригодности для жизни. С эстетической точки зрения видимость выше бытия. На этом фундаменте выстраивается собственно ницшевская концепция человека. Вместе с тем, в ранний период еще не полностью преодолено влияние Шопенгауэра, следствием чего становятся своеобразные метафизические вкрапления в философскую антропологию Ницше. Отсюда некоторая двойственность в концепции. С одной стороны, человек – это произведение искусства, художник, созидающий самого себя и утверждающий прекрасную видимость поверх ужасающей бездны бытия. Эту тенденцию можно определить как преимущественно ницшеанскую. С другой стороны, человек – это герой, отрицающий свою индивидуальность в виду утверждения Праединого (Ureine) и слияния с ним. Эту тенденцию следует охарактеризовать как шопенгауэрианскую. Оба направления Ницше проецирует на античность и античного человека. Первому направлению соответствует художник гомеровского типа, второму – Эмпедокл, прыгающий в Этну, а также гибнущий трагический герой. В первом случае преобладает аполлоническое начало, во втором – дионисийское. Наконец, Ницше выделяет еще и третий тип человека, который в наибольшей степени соответствует современному. Это теоретический человек, не аполлонический и не дионисийский, но абстрактный по преимуществу. Ученый или философ, отдающий предпочтение абстракциям. Данный образ также проецируется на античность – так формируется ницшеанская фигура Сократа и сократического человека. Последний тип Ницше связывает с разрушением и гибелью античной культуры.
Отправным пунктом для формирования образа человека-художника выступает Вагнер, который, в глазах молодого Ницше, порывает с современной культурой и возрождает древнюю: «Вагнер пытается просто отбросить атлас современной культуры: его музыка имитирует древнейшую пра-музыку. Синкретическое произведение искусства подобно творению древнейшего человека, так же как предпосылкой вагнеровского искусства является древнейший дар. Нераздельный человек. Поющий прачеловек (Der ungetrennte Mensch. Der singende Urmensch)».[85] Пока у Ницше еще нет учения о сверхчеловеке (Übermensch), но есть прачеловек (Urmensch). Концепт «прачеловек» столь же трудно поддается точному определению, как и «сверхчеловек». В обоих случаях утверждается не понятие с четкими границами, но некий горизонт. Сверхчеловек ориентирует в будущее, прачеловек – в прошлое. Оба горизонта представляют собой по сути варианты отталкивания от настоящего, от неприемлемой для Ницше современности. Своего нераздельного и поющего прачеловека профессор классической филологии пытается найти в древней Греции. Но мы не сильно промахнемся, если будем искать его там, где его увидел сам Ницше: на сцене оперного театра, во время исполнения «Тристана» или «Тангейзера»…
Будущая оппозиция человека и сверхчеловека предвосхищается у молодого Ницше оппозицией человека и гения: «Человек и гений противостоят друг другу (Der Mensch und der Genius stehen sich in sofern gegenüber)».[86] Значение, оправдание существования человека, как и государства состоит преимущественно в подготовке и создании условий для появления гения: «Гений как “небодрствующий, но лишь грезящий” человек, тот, как я говорил, подготовляется и возникает в человеке, бодрствующем и грезящем одновременно, имеет в полной мере аполлиническую природу».[87] Позднее существование человека будет оправдываться уже появлением не гения, но сверхчеловека. «Культ гения» будет Ницше отвергнут.
Но это в будущем. А пока Ницше еще находится под влиянием двух гениев современности – Шопенгауэра и Вагнера. У Шопенгауэра он заимствует образ великанов, общающихся друг с другом сквозь тысячелетия и не обращающих внимания на копошащихся под ногами карликов.[88] В Вагнере философ находит воплощение «всехудожника и всечеловека» – тип, к которому он относит людей «трагической эпохи», в частности, Эсхила.[89] «Всечеловек» – еще один вариант предвосхищения «сверхчеловека» (Übermensch). «Всечеловек» у Ницше стоит в одном ряду с «Allkünstler»: «всехудожником». Тем самым подчеркивается преимущественно эстетическая, художественная направленность осмысления человека: «Всечеловек» есть не кто иной, как «всехудожник», являющийся собственным творением. Молодой Ницше находил таких людей среди древних греков. Находил, потому что искал. Однако обратившись к программному трактату Вагнера «Опера и драма» мы увидим, что вдохновили Ницше на эти поиски не только и не столько древние греки.
Наряду с образом синтетического человека («нераздельного прачеловека», «всехудожника и всечеловека») у Ницше представлен другой тип человека – дионисийского. Это человек экстатический (ёкотаотд), человек, «выходящий из себя».[90] «Бытие-внесебя» (Außersich-sein) – установка, предполагающая выход за пределы положенных границ, их временное снятие или полное разрушение. Это путь трансгрессии. Имеет значение направленность этого «внесебя-бытия». В ранний период творчества трансгрессия у Ницше представляет собой путь к праединому (Ureine). Здесь еще дает о себе знать не до конца преодоленное влияние метафизики Шопенгауэра. Сквозь призму этой метафизики Ницше, на тот момент штатный профессор Базельского университета, видит греческую трагедию. Так появляется формула «победоносное поражение или поражение, ведущее к победе» (siegreiche Unterliegen oder das im Unterliegen zum Siege Gelangen): «Необходимо, чтобы трагический герой погиб от того, что приведет его к победе».[91] В следующем десятилетии Ницше даст свою ставшую хрестоматийной формулу: «Человек – это переход и гибель». Но уже сейчас еще не достигший тридцатилетнего возраста Ницше формулирует свой императив, по степени категоричности превосходящий кантовский: «поставь сам себе цели, высокие и благородные цели, и, преследуя их, погибни! (gehe an ihnen zu Grunde!) Я не знаю лучшей цели жизни, чем погибнуть во имя великого и невозможного».[92]
Ко времени написания «Так говорил Заратустра» рудименты шопенгауэровской метафизики исчезнут. Праединое уступит место вечному возвращению, горизонту принципиально неметафизическому. Трагический герой уступит место сверхчеловеку. Но установка на преодоление человеком самого себе посредством высоких целей, ведущих к гибели, останется. Так, Заратустра слышит призыв: «Скажи свое слово и разбейся!».[93]
85
Ницше Ф. Полное собрание сочинений: В 13 томах. Т. 7: Черновики и наброски 1868–1873 гг./Ф. Ницше. – М.: Культурная революция, 2007. – С. 300.
86
Ницше Ф. Полное собрание сочинений: В 13 томах. Т. 7: Черновики и наброски 1868–1873 гг./Ф. Ницше. – М.: Культурная революция, 2007. – С. 303.
87
Там же, С. 304.
88
Там же, С. 506.
89
Там же, С. 478.
90
Там же, С. 10.
91
Ницше Ф. Полное собрание сочинений: В 13 томах. Т. 7: Черновики и наброски 1868–1873 гг./Ф. Ницше. – М.: Культурная революция, 2007. – С. 178.
92
Ницше Ф. Полное собрание сочинений: В 13 томах. Т. 7: Черновики и наброски 1868–1873 гг./Ф. Ницше. – М.: Культурная революция, 2007. – С. 588.
93
Ницше Ф. Полное собрание сочинений: В 13 томах. Т. 4: Так говорил Заратустра. Книга для всех и ни для кого / Ф. Ницше. – М.: Культурная революция, 2007. – 432 с.