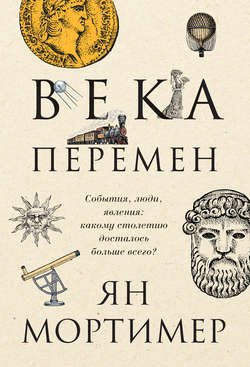Читать книгу Века перемен. События, люди, явления: какому столетию досталось больше всего? - Ян Мортимер - Страница 10
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1101–1200
Двенадцатый век
ОглавлениеВ сочельник 1144 г. государство крестоносцев Эдесса пало под натиском мусульманского военачальника Занги. Все захваченные в плен христианские рыцари были перебиты, а их жен и детей продали в рабство. Это событие нанесло тяжелую травму христианскому миру. Пораженный папа Евгений III попросил своего старого друга и наставника Бернарда Клервоского произнести проповедь в поддержку нового крестового похода, чтобы отвоевать Божью вотчину. Бернард начал свою жизнь монахом-цистерцианцем, но позже выяснилось, что он еще и первоклассный дипломат. 31 марта 1146 г. он зачитал папскую буллу Евгения в церкви Везеле и обратился к собравшейся толпе в своей неподражаемой манере. Вскоре люди стали кричать: «Кресты! Дайте нам кресты!» и поклялись сражаться за Христа. Даже французский король, бывший среди собравшихся, сам отправился в Святую землю. Вдохновленные его примером и риторикой Бернарда, многие аристократы последовали за ним. В последующие недели, когда Бернард поехал в Германию, чтобы прочитать проповедь императору Священной Римской империи, люди стали сообщать о чудесах, случавшихся везде, где он бывал. Религиозный пыл только рос. Бернард написал папе: «Вы приказали; я послушался… Я заговорил, и крестоносцев сразу появилось несчетное множество. Целые деревни и города стоят заброшенными. Вы не найдете одного мужчины даже на семь женщин. Везде можно встретить вдов, чьи мужья еще живы». Наконец добравшись до Шпейера, Бернард воспользовался всеми своими навыками, чтобы убедить и императора присоединиться к крестовому походу. После двух дней уговоров он раскинул руки, изображая Христа на кресте, и возопил: «Человече, что я должен сделать для тебя, чего я не сделал?» Пораженный император поклонился и поклялся вступить в бой, чтобы отвоевать Иерусалим.
В XII в. полно подобных драматичных моментов и невероятных персонажей. То был век влюбленных Пьера Абеляра и Элоизы, аббатисы-композитора Хильдегарды Бингенской и величайшего рыцаря Средневековья Уильяма Маршала. Он видел таких колоритных личностей, как Фридрих Барбаросса, Генрих II и Томас Бекет. В этом веке на передний план вышли королевы: императрица Матильда, Алиенора Аквитанская, грузинская царица Тамара. В этом столетии было немало правителей с «львиными» прозвищами: Вильгельм Лев, Генрих Лев, Ричард Львиное Сердце, а еще короли с весьма неожиданными эпитетами: Давид Строитель, Гумберт Блаженный, Людовик Толстый. Названия военных орденов, особенно тамплиеров и госпитальеров, помнят и по сей день. То была первая великая эпоха рыцарства, столетие, в котором изобрели геральдику и турниры. В то же время оно подарило нам крепкую, приземленную культуру – например, писавших на латыни поэтов Архипииту Кельнского и Гугона Примаса Орлеанского, а также трубадуров, которые сочиняли свои трогательные поэмы, чтобы порадовать и соблазнить своих дам (или, что случалось чаще, чужих).
Поразительно, сколь многие истории и фразы этого периода до сих пор сохранились в нашей культуре. Самая знаменитая фраза – это, скорее всего, вопрос Генриха II: «Неужели никто не избавит меня от этого мятежного попа?» Тот уже был сыт по горло своим канцлером Томасом Бекетом, архиепископом Кентерберийским. Не менее крылатой стала фраза, обращенная магистром тамплиеров к магистру госпитальеров у родников Крессона в 1187 г., когда последний сказал, что вести в атаку 600 рыцарей против 14-тысячного войска Саладина – глупость: «Вы слишком любите свою белокурую голову, которую так хотели бы сохранить». И кто может забыть браваду Вильгельма Льва, короля Шотландии, который бросился в совершенно безнадежную атаку на англичан в битве при Алнике, крича: «Теперь посмотрим, кто из нас хорошие рыцари». Учитывая все это кровопролитие, вы сразу поймете, почему летописец XII в. Роджер Ховеденский писал, что «не готов к битве тот мужчина, который никогда не видел, как льется его кровь, не слышал, как хрустят его зубы от удара врага, не чувствовал на себе полного веса противника»[12].
Эти персонажи и истории дают нам представление об эпохе: кровопролитная, смелая, самоуверенная, своенравная, страстная. Тем не менее все они очень мало связаны с самыми значительными переменами, случившимися в тот период. Самое большое влияние на XII в. оказали скромные крестьяне, юристы и ученые. Вы, конечно, можете сказать, что крестовые походы привели к контакту Запада и Востока и культурному обогащению Запада. В определенной степени это верно, но отношения Запада и Востока были куда более продуктивны в городах, где ученые-христиане могли более-менее мирно работать над арабскими и греческими манускриптами. И, хотя государства крестоносцев Антиохии, Эдессы, Триполи и Иерусалима были лидерами в строительстве замков и оказали немалое влияние на Европу, они мало изменили базовую функцию замка как таковую – помогать гарнизону выдерживать осаду. Более глубокие изменения в обществе нужно искать в других местах.
Рост населения
Примерно с 1050 г. в Европе начался значительный экономический рост. Огромные леса и пустоши расчищались, болота осушались, так что пахотной земли стало заметно больше. Если бы мы могли посмотреть на континент с высоты птичьего полета, то увидели бы, что в Европе, ранее преимущественно покрытой лесами, стали преобладать поля. Расчистки стали результатом значительного роста населения, причины которого до сих пор обсуждают историки. Одна из возможных – изобретение сбруи, что позволило пахать на лошадях. В отличие от волов, которые могут тянуть огромный вес даже в обычном ярме, лошади в таких условиях работают значительно хуже: крепления колют им шею и перекрывают артериальное кровообращение. Так что требовалась куда более сложная упряжь, чтобы использовать для пахоты лошадей. Эта технология, известная в Древнем мире, но потом утерянная, была заново открыта в XII в. Впрочем, распространялась она довольно медленно: даже в XV в. в Англии волы все еще составляли около двух третей всех тягловых животных[13]. Тем не менее использование и лошадей, и волов хотя бы в некоторых местностях, несомненно, расширило возможности для расчистки и возделывания земли.
Более важная причина роста населения – так называемый Средневековый климатический оптимум. Средняя температура в X и XI вв. росла очень медленно и к началу XII была всего на градус выше, чем до 900 г. Разница кажется не очень большой – изменение температуры на один градус мы едва замечаем. Но вот рост ежегодной средней температуры на один градус – это очень значительное изменение. Как указал историк Джеффри Паркер, в областях с умеренным климатом «падение средней весенней температуры на 0,5 °C продлевает риск последних заморозков на десять дней, а падение средней осенней на те же полградуса – продлевает риск первых заморозков на десять дней. И того и другого достаточно, чтобы убить весь урожай»[14]. Из этого следует, что повышение температуры всего на 0,5 °C приводит к обратному эффекту. Более того, опасность меняется в зависимости от высоты над уровнем моря. По словам Паркера, падение температуры на 0,5 °C вдвое повышает риск гибели урожая в низинах и вшестеро – риск гибели двух последовательных урожаев, а вот риск гибели нескольких последовательных урожаев на высоте 300 м над уровнем моря увеличивается в тысячу раз. Соответственно, разница температур на 0,5 °C для многих людей является разницей между жизнью и смертью. Меньше суровых зимних дней – меньше урожая погибнет от холода. Больше теплых летних дней – меньше вероятность, что урожай погибнет, а со временем урожайность даже вырастет. Соответственно, в среднем у людей стало больше еды, и умирало меньше детей.
Небольшое снижение детской смертности на первый взгляд не кажется событием настолько значительным, чтобы считать его одной из величайших перемен, когда-либо случившихся в истории Запада. Но если это явление экстраполировать на всю Европу и на целых два с половиной века Средневекового климатического оптимума, то его важность сразу становится очевидной. Выжившие дети заводили семьи, многие их дети тоже выживали; они, в свою очередь, расчищали больше земли и собирали достаточно богатые урожаи, чтобы прокормить еще большее население в следующем поколении. Без избытков зерна не было бы никакой культурной экспансии. Не было бы «лишних» работников, которых можно было отправить на постройку монастырей, замков и соборов, а ученым пришлось бы работать в полях, а не читать книги. Несколько исходных дополнительных жизней оказали экспоненциальный эффект – просто потому, что в Европе плодородных почв было в изобилии. Они нуждались лишь в людях, которые будут их возделывать.
12
Maurice Keen, Chivalry (1984), p. 88.
13
John Langdon, Horse, Oxen and Technological Innovation (Cambridge, 1986), p. 98.
14
Geoffrey Parker, The Global Crisis: War, Climate Change and Catastrophe in the Seventeenth Century (2013), p. 17.