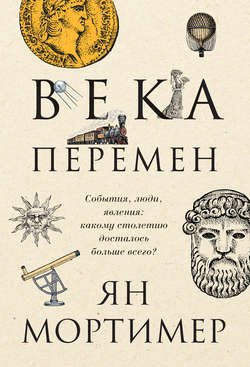Читать книгу Века перемен. События, люди, явления: какому столетию досталось больше всего? - Ян Мортимер - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
1001–1100
Одиннадцатый век
Отказ от рабства
ОглавлениеФранцузский историк Марк Блок утверждал, что исчезновение рабства стало «одним из самых глубоких преображений человечества за всю его историю»[6]. Несомненно, отказ от рабства действительно стал значительной переменой в европейском обществе в 900–1200 гг., но то был довольно сложный процесс. Первое, на что указывают временные рамки, – «отмена» не была единовременной и полной: на Западе рабство сохранялось еще в XIII в., а в Восточной Европе – еще несколько столетий спустя. Кроме того, не все рабы содержались в одинаковых условиях: в разных странах были разные законы об обращении с рабами. Кроме того, не всегда ясно, где заканчивается рабство и начинаются другие формы подневольного труда, например, крепостного или несвободного крестьянина. Тем не менее в XI в. были сделаны важные шаги в сторону ограничения рабства, которые привели к его постепенному исчезновению на Западе – поэтому мы обсуждаем тему именно в этой главе.
Рабство – это древний институт; средневековое рабство ведет свое происхождение от Римской империи. Римский юридический принцип dominium гласил, что владение вещью не ограничивается только правом собственности на нее: вы имеете право делать с вещью все, что вам заблагорассудится – и этой «вещью» может быть и человек. После того как в V в. пала Западная Римская империя, новые королевства, возникшие на ее обломках, ввели различные ограничения этого принципа; и рабы, и рабовладельцы подчинялись в первую очередь законам королевства. Появлялись различные правила, например: становится ли свободная женщина, вышедшая замуж за раба, сама рабыней, и наоборот; или может ли мужчина, который женился на женщине, не зная, что она рабыня, свободно развестись с ней. В некоторых регионах мужчина имел право продать жену в рабство, аннулируя тем самым брак. Если мужчина продавал в рабство самого себя, из этого еще не следовало, что его жена и дети тоже станут рабами, ибо родились они свободными; но в то же время свободы им это тоже не гарантировало. В некоторых королевствах человек, убивший своего раба, должен был выполнить епитимью, тяжесть которой зависела от того, совершил ли раб какой-то серьезный проступок или же хозяину просто захотелось. Некоторые законы требовали от мужчин отпустить на волю рабыню, родившую ему двух детей. В некоторых регионах рабы имели право оставить себе заработанные деньги и постепенно выкупиться из рабства. Ине, король Уэссекса, издал свод законов, который позже перенял Альфред Великий; там, в частности, говорилось, что, если хозяин заставит раба работать в воскресенье, его автоматически отпускали, а хозяина штрафовали на тридцать шиллингов.
Среди всех этих вариаций просматривается одно важнейшее отличие, которое отделяет раба от несвободного крепостного крестьянина в феодальной системе. Помещик мог накладывать ограничение на деятельность своих крепостных: с кем они могли вступать в брак, куда ходить, на какой земле работать, – но лишь потому, что они были прикреплены к его поместью. Крепостной был привязан к земле, и все его обязанности передавались по наследству или покупались вместе с этой землей. Соответственно, это была косвенная форма служения, которая подразумевала еще несколько важных различий. Власть феодала ограничивалась обычаями, и, соответственно, крепостные крестьяне имели определенные права. А вот раб был просто собственностью. Его можно было покупать или продавать отдельно от супруга или супруги – или же семейную пару можно было сохранить. Раба или рабыню можно было избивать, калечить, кастрировать, насиловать, заставлять работать постоянно (не считая, как уже говорилось выше, воскресений в некоторых королевствах) или даже убивать без каких-либо последствий для владельца. Рабы были не просто гражданами второго сорта. Гражданами второго сорта были крестьяне – рабы вообще не считались за людей.
Вы, наверное, подумали, что христианская церковь должна была искоренить рабство. Но ее позиция не так однозначна. С одной стороны, известны взгляды папы Григория Великого, изложенные в конце VI в.: человечество было создано свободным, и, соответственно, с точки зрения морали и справедливости всем мужчинам и женщинам нужно вернуть свободу, для которой они рождены. С другой стороны, есть и люди вроде святого Геральда Аврилакского, который жил три века спустя; незадолго до смерти он освободил многих своих рабов, но при жизни считал их своей собственностью, о чем говорят вовсе не подобающие святому угрозы искалечить их за недостаточное послушание[7]. Частью проблемы, как мы уже видели, было то, что влияние церкви в начале XI в. было довольно ограниченным, и у нее не было никаких реальных способов призвать к ответу недобросовестных феодалов. Но главный вопрос все равно состоял в том, что рабы являлись собственностью. Если церковь не особенно стремилась расставаться со своей собственностью, как она могла заставить богачей расстаться со своей? В городах вроде Камбре, Вердена или Магдебурга епископу даже платили налог с продажи каждого раба. Чтобы развиваться и укреплять свою власть, церкви требовалась помощь обеспеченных людей, чье благосостояние во многом зависело от рабского труда. Они не станут поддерживать церковь, которая хочет отнять у них богатство. Таким образом, церковь оказалась в ловушке – между своей нравственной миссией и стремлением к деньгам и власти.
Так что же изменилось в течение XI в.? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно сначала понять, почему люди вообще попадали в рабство. Начнем с того, что в рабство нередко продавали взятых в плен на войне мужчин и женщин. То была стандартная практика и в христианском мире, и за его пределами. Английских рабов-христиан в правление Кнуда Великого продавали Дании. Пираты продавали захваченных в плен англичан в Ирландии. Ирландскими и валлийскими рабами торговали в Англии. Английское слово «slave» происходит от «Slav» («славянин»): славян тогда еще не обратили в христианство, и они были весьма уязвимы для набегов христианских работорговцев. Но не всякое рабство было результатом войны: некоторые люди сами продавали себя в рабство. То, что в рабство можно было пойти добровольно, сейчас, конечно, шокирует, но иногда у людей просто не оставалось выбора: они продавали себя или членов семьи, чтобы спастись от голодной смерти. Для третьих рабство было формой наказания. Вора, пойманного с поличным, могли сделать рабом его жертвы вместо того, чтобы казнить. В некоторых королевствах рабство было наказанием за государственную измену. Священники, пытавшиеся оправдать рабство, утверждали, что более милосердным будет обратить преступника или побежденного солдата в рабство, чем повесить его. На это упирал, в частности, Рабан Мавр, автор одной из двух книг, которую вы нашли бы в 1001 г. в доме епископа Кредитонского.
С этой ситуацией в конце концов покончили несколько социальных явлений. Во-первых – деятельность церкви по продвижению мира. Конфликтов стало меньше, а вместе с ними – и возможностей обратить своих врагов в рабство. Кроме того, случился продолжительный период экономического роста: расчищались пустоши, осушались болота, строились новые поместья, люди в целом стали активнее торговать друг с другом. Если учесть, что двумя главными причинами существования рабства были межкультурные конфликты и крайняя нищета, а в Европе стало меньше и того и другого, то логично, что пошло на убыль и рабство. Обогащение общества привело в конце XI в. к росту урбанизации в Германии, Франции и Италии; рабы теперь могли сбежать в большой город и продавать свой труд там. Кроме того, феодалам не очень хотелось кормить рабов, которые плохо работали; крепостной крестьянин, привязанный к земле, который работал на феодала бесплатно, но добывал пропитание сам, был куда более экономичной трудовой единицей. И, помимо всего прочего, с ростом богатства и власти церковь постепенно усиливала свои нравственные позиции. В числе правил движения «Мир Божий» было следующее: рабы, которые сбегали на собраниях и шествиях, навсегда становились свободными. Преступников тоже стали куда реже наказывать обращением в рабство. Наконец, определенное влияние оказала и политика отдельных правителей. Несколько писателей-современников сообщают, что Вильгельм Завоеватель твердо верил, что рабство – это варварский обычай, и предпринял конкретные усилия в борьбе с работорговлей[8]. Под конец его правления 6 из 28 жителей поместья Мортон все еще считались рабами (servi), но в целом по стране рабы составляли лишь около 10 процентов населения. После смерти Завоевателя церковь подхватила его антирабовладельческие послания. В 1102 г. Лондонский синод объявил, что «никто и никогда больше не должен заниматься таким постыдным делом, распространенным в Англии, как торговля людьми как скотом». К этому времени рабство уже практически исчезло во Франции, центральной Италии и Каталонии[9]. В кельтских странах оно сохранялось еще целый век, а в Восточной Европе – и того дольше, но практика торговли людьми на рынке, которая была на Западе нормой с доисторических времен, быстро подходила к концу.
6
Цитата по Pierre Bonassie, trans. Jean Birrell, From Slavery to Feudalism in South-western Europe (Cambridge, 1991), p. 1.
7
Цитата Григория Великого – парафраз из Frederik Pijper, «The Christian Church and Slavery in the Middle Ages», American Historical Review, 14, 4 (July 1909), pp. 675–695, at p. 676. Информация о св. Геральде Аврилакском – из Bonassie, Slavery to Feudalism, p. 55.
8
John Gillingham, «Civilising the English? The English Histories of William of Malmesbury and David Hume», Historical Research, 74, 183 (February 2001), pp. 17–43, esp. p. 36. Спасибо доктору Марку Моррису за то, что обратил мое внимание на эту публикацию.
9
Plinio Prioreschi, A History of Medicine. Vol. 5: Medieval Medicine (Omaha, 2003), p. 171.