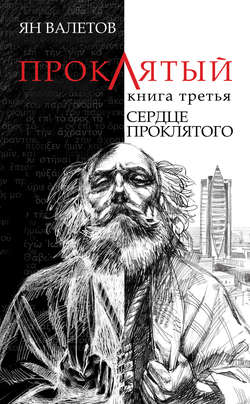Читать книгу Сердце Проклятого - Ян Валетов - Страница 3
Книга первая
Глава 2
ОглавлениеРим
Весна 37 года н. э.
Тому, кто не жил в Александрии, Рим мог показаться красивым городом. Раскинувшийся на семи холмах, рассеченный лентой Тибра и добросовестно сшитый широкими стежками мостов, он был велик, могуч и настолько прекрасен в своем надменном уродстве, что у Иегуды на миг перехватило дыхание.
О, да…
Это был действительно Вечный город! Тысячи и тысячи каменных зданий, способных простоять многие годы, до скончания времен, то теснились вдоль улиц, то вдруг разбегались, открывая для глаза и дыхания свободное пространство. Город нависал над путником, давил его беспощадно своей громадиной, а потом оставлял в недоумении посреди площади перед вознесшимся к небесам храмом.
Римские дворцы, огромные цирки, виллы, утопающие в зелени, дома, вырастающие из зловонных куч мусора, потрясающие красотой и размерами колоннады – всего было так много, так чересчур… Рим кичился своим богатством, своей силой, своей красотой и поглядывал на весь остальной мир свысока! Такое высокомерие, такое небрежение к чужой зависти может себе позволить только столица громадной империи, плавящей в своем тигле сотни народов и знающей, что впереди у неё вечность.
Иегуда видел немало городов и некоторые из них были по-настоящему велики. Даже в его родной Александрии жило больше миллиона человек. Ершалаим, конечно, мог собрать на праздники почти полмиллиона приезжих, но ни с Римом, ни с Александрией Египетской сравнения не выдерживал.
Как опытный путешественник, Иегуда был готов увидеть мощь Империи, ее главный город. Вернее, думал, что готов. На самом деле, Рим потряс его, буквально раздавил своей мощью, шумом, огромными толпами, снующими туда-сюда, величием Форума и стоколонным портиком Помпея, в котором некогда Брут зарезал своего приемного отца – Цезаря. Город заставил Иегуду невольно сжаться, стать меньше ростом и почувствовать себя провинциалом, деревенщиной, впервые попавшим в столицу.
На улицах Рима в любое время года и в любые часы можно было встретить множество зевак с разинутыми от восхищения ртами, крутивших головами во все стороны – местные жители посматривали на них с нескрываемым превосходством. Так что еще один путник в запыленной одежде и с обтрепанной дорожной сумкой через плечо особого интереса ни у кого не вызывал. И Иегуда спокойно проследовал мимо стражи, караулившей Аппиеву дорогу, а потом и мимо конного отряда, встретившегося ему после поворота на дорогу Ардейскую.
Ему дважды пришлось спрашивать, правильно ли он идет, но зато похожий на подкову Ардейский тракт вывел его прямиком на Авентинский холм. Проскользнув через ворота в Серпиевой стене, он наконец-то зашагал по грязным и узким улочкам Авентина. Путь длиной в сорок семь дней закончился. Теперь Иегуда был близок к цели путешествия, но… оставалось много всяческих «но».
Авентинский холм много лет был прибежищем плебса, солдат и небогатых торговцев, а также преступников и пройдох всех мастей и национальностей. Количество притонов и лупанариев, рассыпанных по его склонам, не поддавалось подсчету, как и количество питейных заведений, таверн и ночлежек. Весь город приходил сюда повеселиться и пощекотать себе нервы, сословные границы отступали перед желанием получить удовольствие, и в одном кабаке за соседними столами вполне могли пьянствовать матерые преступники и высокородные патриции. Иногда, особенно после недельного загула, одних от других было не отличить.
Тут полагалось не зевать – срезать кошелек с пояса могли за миг – и внимательно поглядывать под ноги, чтобы не испачкать обувь. Чего-чего, а нечистот здесь хватало и в прямом и в переносном смысле. На Авентине жили очень разные люди – хорошие и плохие, бедные и не очень. Жили и богатые, в основном те, кто, разбогатев, не хотел покидать привычную обстановку, да те, чье дело было связано с авентинскими трущобами и портом, до которого было рукой подать. Впрочем, и до Палатина, и до Форума отсюда тоже было подать рукой, и потому здешние старожилы с гордостью называли свои кварталы сердцем Рима, хотя уместнее было бы сравнить их с его чревом.
Авторитетов здесь не признавали – в ночное время получить нож под ребра мог даже сам император, появись он на Авентине без охраны. Здесь ценили не изысканные манеры, а золото и умение владеть заточенным куском железа, жестокость да твердую руку и способность оставаться трезвым после нескольких кувшинов вина.
Дорога утомила Иегуду, хотелось омыть лицо и ноги и хоть немного посидеть в прохладе. Хотя здесь в конце мая было не так жарко, как в Иудее, но близость лета ощущалась даже ночью – плащ, который он использовал как одеяло всю долгую дорогу до столицы, последние две ночи лежал в заплечном мешке без дела, а днем припекало так основательно, что без остановки на сиесту было не обойтись.
Поблуждав немного в лабиринте улиц, Иегуда, наконец, нашел нужный ему дом, во дворе которого ютилась небольшая харчевня. Хозяин заведения (а помимо еды, здесь можно было незадорого получить ночлег) – немолодой сириец, лысый и жирный, как сарис[1], косил на один глаз, отчего выглядел подозрительным. В ответ на приветствие он уперся в Иегуду темным, чуть навыкате, здоровым глазом, и, мгновенно оценив гостя от потертых калиг до намотанного на голову платка, буркнул:
– Здравствуй!
– И тебе здравствовать, Арета…
– Ты знаешь мое имя? – спросил сириец, нимало не дивясь. – Странно, я не помню тебя. Ты бывал здесь раньше?
Вот голос у хозяина никак не походил на голос сариса – густой и сильный.
– Нет, уважаемый, – отозвался Иегуда, украдкой осматриваясь. – Друзья подсказали мне твою таверну как место, где можно поесть и переночевать. Надеюсь, что они не ошиблись…
– Они не ошиблись…
Сириец повернул голову и принялся рассматривать Иегуду косящим глазом.
– Ты иудей? – спросил он внезапно и прищурился, словно силился рассмотреть что-то под выгоревшей тканью кетонета.
Иегуда был брит по римской моде (отсутствие бороды делало его малоузнаваемым, и он уже привык скрести подбородок заточенным до опасной остроты ножом), волосы носил собранными в хвост, кожа его потемнела и обветрилась за время путешествия так ровно, что трудно было предположить, что на его лице хоть когда-то росли волосы. Он походил на бывшего солдата-наемника, ищущего себе нового хозяина, на грека, на франка, на уроженца здешних мест…
Да на кого угодно он походил, но не на иудея!
Последний год для всех, с кем сталкивала его бродячая жизнь, он был александрийским греком по имени Ксантипп и не собирался менять имя, к которому привык.
– Нет, я не иудей.
– Странно, – сказал Арета и посмотрел на гостя сразу двумя глазами. От этого взгляд дружелюбнее не стал. – Я готов был поспорить, что ты иудей, но дело твое. Ты не иудей, поверим тебе на слово. Садись, не иудей. Что будешь пить? Что есть? Не думай, что я лезу в твои дела… Мне-то что от того, кто ты есть? Имеешь монету, чтобы расплатиться – и двери моего дома открыты для тебя. Просто у меня на кухне нет кошерной еды, и все здешние евреи об этом знают. Если кому нужен кошер, то ему прямая дорога в заведение Исайи, это в трех кварталах отсюда…
– Мне не нужен кошер, меня устроит все, что у тебя есть, – Иегуда присел на лавку и положил суму у ног. – Не бойся, я заплачу…
Сириец усмехнулся.
– Похлебка из требухи, пироги со свининой, вино… Правда, вино кислое, пусть Юпитер поразит виноторговца Агриппу молнией в его тощий зад! Он продал мне четыре кувшина этой гадости! Но я честно говорю, что это кислятина, и беру за него недорого! Лучше прополоскать рот этим пойлом, чем есть всухомятку, уж поверь! Тебя это устроит?
– Устроит.
– Нужен ночлег?
– Да.
– Хочешь жить один или поспишь в общем зале? Одному – дороже!
– Я знаю. Пока у меня есть деньги, я сниму комнату. А там – посмотрим.
– Так как тебя зовут, не иудей?
– Ксантипп…
– Ты не обижайся, Ксантипп, – сказал Арета с той же кривой улыбкой. – Я хоть и гостеприимный человек, но верить на слово не привык и хочу увидеть деньги. Еда и постель – пять ассов в день. Остановишься на неделю – сделаю скидку, заплатишь три денария. Платить будешь с утра, есть – когда захочешь, но за эти деньги только раз в день. Хочешь водить девок – води, но будете шуметь – выгоню. У меня приличный постоялый двор, а не лупанарий. Понял? Показывай деньги!
– Это за два дня, – Иегуда положил денарий на край стола. – Бери деньги и дай мне напиться, Арета.
Сириец смахнул монету со стола с грацией кота, серебряный кружок мгновенно исчез в пухлой ладони.
– Вода – бесплатно, – прогудел он, явно гордясь своей щедростью, и сделал знак дородной темнокожей рабыне, выглядывавшей из кухонных дверей.
Рабыня оказалась расторопной. Едва Иегуда успел сделать несколько глотков степлившейся воды, как на стол перед ним уже появились глиняная миска с горячей ароматной похлебкой, четверть темного хлеба, еще теплого, недавно из печи, да кусок пирога с начинкой из мяса, лука и яиц. Вино вынесли из погреба, оно было прохладным и действительно очень кислым, хотя, если разбавить…
Дела у Ареты, видать, действительно шли неплохо. Небольшой дворик харчевни приютил шестерых едоков, а ведь день только начал клониться к вечеру, и многие еще занимались делами вдалеке от Авентина. Ближе к ночи в харчевне будет полно народу, а, значит, еще один гость не бросится в глаза. И земляков здесь встретить затруднительно – мало кто из правоверных иудеев переступит порог дома, где кормят свининой. Когда-то и сам Иегуда с негодованием отверг бы такую еду, но теперь его звали Ксантипп и он был голоден, а от пирога так вкусно пахло!
Он подул на ложку и попробовал варево – темнокожая кухарка не зря ела хозяйский хлеб.
Человек, который рекомендовал Иегуде услуги сирийца, советовал пожить здесь потому, что родственник хозяина занимал пост в городской страже, и постоялый двор не боялся ни ночных вторжений солдат, ни ночных вторжений бандитов. Но он ни словом не обмолвился о том, что здесь еще и вкусно кормят.
Пусть это будет самый большой грех в моей жизни, подумал Иегуда, откусывая от пирога с нечистой начинкой. Пусть он затмит то, что я сделал раньше, и то, что собираюсь здесь сделать. Око за око – это правильный закон. Для меня – этот закон главный.
После еды хозяин проводил Иегуду в комнату для ночлега. Комнатой ее, конечно, можно было назвать с натяжкой, размерами она едва превышала жесткий лежак, на котором гостю предлагалось коротать ночные часы, но зато напротив кровати располагалось окно – настоящее окно с деревянными ставнями, выходившее на узкую улочку на высоте второго этажа.
– Отхожее место во дворе, – пояснил Арета. – Из окна не отливай, не люблю, когда возле дома воняет! Хочешь помыться – придется натаскать воды, колодец недалеко. Не хочешь таскать – иди в городскую баню, там, конечно, надо заплатить, зато помоешься по-человечески. В общем, если чего – спрашивай. А будешь выходить из дома к ночи – держи ухо востро, а кошель – в тайном месте. Несколько монет положи отдельно, чтобы, в случае чего, отдать. Народ у нас здесь разный водится, могут и зарезать сгоряча…
Иегуда кивнул и поблагодарил хозяина. Тому явно не стоило знать, что у гостя под одеждой скрыта острая, как бритва у брадобрея, кривая сика – кинжал зелотов, жало сикариев, испивший за свою жизнь немало крови. Выглядеть безобидным путником оказалось удобной маскировкой. Только вот долго ли удастся казаться не тем, кем он был на самом деле? Арета принимал в своем гостином доме сотни людей, такие, как он, умели разбираться и в намерениях, и в истинных личинах постояльцев – что поделать? Такая работа!
Иегуда, несмотря на усталость, ложиться не стал. После обильной пищи можно было провалиться в глубокий сон, а у него на конец дня были другие планы. Оставив суму на ложе, а сику на небольшом каменном выступе над окном, он вышел из постоялого двора и, не торопясь, отправился вниз по улице, к общественным баням. Но шел он не к баням, указанным Аретой. Заведение, в которое спешил Иегуда, располагалось у подножия холма, неподалеку от Цирка Максимуса, и на его поиски пришлось потратить некоторое время. Из ста пятидесяти бань, в которых римские граждане омывали свои тела, эта не отличалась ни особой роскошью, ни какими-нибудь отдельными услугами. Находясь на границе между двух миров – миром Палантина и миром Авентина – баня охотно привечала в своих комнатах и бассейнах жителей обоих холмов, предоставляя им три огромных ванны для омовений, четыре зала с разными температурами, просторную раздевалку и обширный триклиний[2], где гости могли отдохнуть, поесть и выпить вина. Человек, прислуживающий в раздевалке, был смугл и молчалив. Он принял у Иегуды деньги в уплату, одежду и молча кивнул, когда тот прошептал несколько слов на своем родном языке. Этих слов никто больше не слышал, и уходил ли куда из бань прислужник, Иегуда не видел. Он омыл тело, провел долгое время в горячей комнате, поплавал в бассейнах с теплой и холодной водой и перешел в лакониум[3].
Он сидел на мраморной лавке с закрытыми от удовольствия глазами, когда почувствовал, что рядом кто-то появился – пришедший опустился на разогретый камень неподалеку.
– Мир тебе, – произнес негромко мужской голос. Сказано было на хибру[4] и Иегуда, не открывая глаз, отозвался на том же языке.
– Шалом!
– Мне сказали, – продолжил тот же голос, – что ты принес мне привет от нашего общего друга…
– Я принес тебе не привет, а дурную весть, Мозес, – отозвался Иегуда. – С нашим общим другом произошло несчастье. Он умер.
В лакониуме было тихо, только журчала вода в фонтанчике для питья да изредка звучно падали на пол большие тяжелые капли.
– Давно ли это случилось? – спросил пришедший.
Интонации его почти не поменялись, только голос сел, став ниже.
– Почти три месяца назад.
– Он умер на кресте?
– Да, – сказал Иегуда, открывая, наконец, глаза.
Он поднял взгляд на пожилого человека, сидящего на скамье напротив. Человек был лыс – гладкий череп выбрит до блеска, выступившая на нем испарина покрывала розовую кожу сверкающей чешуей. Из-под тяжелых, практически лишенных ресниц век смотрели почти прозрачные, блекло-голубого цвета глаза, на широком лбу разбегались в разные стороны белесые брови. Одно ухо человека было раздавлено и напоминало засохшего моллюска, зато второе, уцелевшее, украшалось массивной золотой серьгой.
– Если ты хочешь узнать, как он умер, Мозес, я могу тебе рассказать.
Старик сглотнул, шумно, с трудом, и покачал головой.
– Не говори мне ничего. Не надо. Скажи только, он умер достойно?
– Да, он умер достойно, – кивнул Иегуда. – Так, как должно умирать. Не беспокойся об этом…
– Как тебя зовут, человек? – спросил Мозес, не сводя с Иегуды своих водянистых глаз.
– Ксантипп.
– Хорошее имя. Не хуже любого другого.
– Зачем тебе знать то, что может быть опасно? Ты – мирный человек.
Взгляд Мозеса стал ледяным.
– Это мой третий сын, Ксантипп, – произнес он еще более хрипло. – Третий сын, которого я теряю. Все трое были непримиримыми, все трое умерли на кресте. Как ты думаешь, кому из них было легче? Моему первенцу Исайе? Или второму моему сыну – Александру? Или моему младшему – Марку? Зачем моему сердцу знать подробности? Чтобы оно разорвалось от горя? Неужели ты думаешь, что я не знаю, какие нечеловеческие муки перенес каждый из них? И что изменилось в мире от вашей борьбы, кроме того, что они умерли, и семя мое ушло в землю? Да, я мирный человек, но это не помешало мне потерять тех, кого я любил. Ты можешь объяснить – с какой целью Неназываемый забрал у меня детей? Что он от меня хочет?
– Не могу. И никто не сможет, Мозес. Мы просто люди и нам не дано проникнуть в его замысел.
Мозес помолчал, двигая губами. Щеки у него были вислые, такие же тяжелые, как веки, мимо крыльев крючковатого носа пролегали глубокие складки, и Иегуде показалось, что по одной из этих складок, сверкая, покатилась слеза.
– Значит, так было нужно. Таков был его замысел. Что ж… Ты принес весть, Ксантипп, – прохрипел Мозес. – Спасибо тебе. Что просишь взамен?
– Немного.
– Обычно за этими словами прячется многое.
– Не в этот раз, аба[5], не в этот раз…
Иегуда наклонился вперед и что-то прошептал в здоровое ухо собеседника.
В первый момент Мозес отшатнулся, но быстро взял себя в руки и сел ровно, запахнув простынь на неожиданно волосатой груди.
Он молчал долго, и Иегуда тоже молчал, слушая стук капель и песню воды в мраморной вазе фонтанчика.
– Хорошо, – произнес Мозес спокойно. – Я помогу тебе найти этого человека. Но другой помощи от меня не жди.
– Мне не нужна другая помощь. Я бы не просил бы и об этом, но не могу же я, чужак, ходить и расспрашивать прохожих… Ты – богатый купец, гражданин Рима – знаешь все, всех и каждого. Ты легко приведешь меня к нему…
– Я богат, я купец, – усмехнулся Мозес горько. – Я римлянин, я уже почти и не иудей, раз не живу по Закону. Дети мои – зелоты – отказались от меня, мне никогда не слышать смеха внуков. Я даже не смог прочесть каддиш над телами сыновей. Я давно умер для вас, в моем доме стоят статуи, новая жена моя – чужого племени… Ты просишь чужака помочь, хотя знаешь, что случится со мной, если кто-нибудь узнает, что я хоть как-то способствовал тебе…
– От меня никто и ничего не узнает, Мозес.
– Ты уверен в этом, Ксантипп?
– Никто не будет знать, что ты помог мне.
– Ты даешь слово?
– Даю.
Мозес помолчал, двигая бровями.
– Ты ведь чистоплотный человек, Ксантипп? – спросил он неожиданно. – Любишь помыться? Поплавать в чистой воде? Можешь не отвечать. Сам вижу, что да… Приходи в мои бани через два дня, после полудня. Возможно, если я тебе поверю, ответ уже будет ждать тебя в раздевалке. Или не будет – тогда тебе предстоит все сделать самому. И не ищи со мной встреч, земляк. В любом случае – не ищи. Мы с тобой больше не увидимся. Так будет лучше для всех.
Иегуда ничего не ответил.
Он облокотился на теплый камень скамьи и прикрыл глаза.
Когда он снова открыл их, в лакониуме уже никого не было.
1
Сарис (иврит) – то же, что евнух (др. греческий), кастрат.
2
Триклиний (лат. triclinium) – пиршественный зал, столовая, выделенная в отдельную комнату под влиянием греческой традиции. Римляне ели, возлежа на ложах-клиниях (лектус триклиниарис). В доме могло быть несколько триклиниев. В триклиниях как правило располагалось три ложа буквой П; если их было два, это называлось биклиний.
3
Лакониум – одна из разновидностей теплых бань. В лакониуме поддерживается умеренная температура +40…60 °С и невысокая влажность – до 30 %.
4
Хибру – иврит.
5
Аба(иврит) – отец.