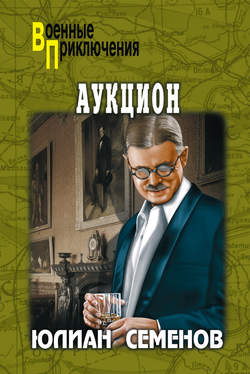Читать книгу Аукцион - Юлиан Семенов - Страница 4
Часть первая
2
Оглавление– Мужчина, – окликнул Степанова на аэровокзале молоденький милиционер, – вы что, не видите, здесь хода нет!
Степанов даже зажмурился от ярости, вспомнил Галину Ивановну: «Пить – пейте, курите себе на здоровье, только стрессов берегитесь»; а это что ж такое, когда вместо «товарищ» или, на худой конец, «гражданин», человек в форме обращается к тебе, словно к безликому предмету, – «мужчина»?! «Понятно вам?» – услышал Степанов интонацию Галины Ивановны, требовательную, атакующую, но в то же время снисходительную и всепонимающую: хороший врач должен иметь в себе что-то близкое к хорошему торговому работнику, который не тащит по-черному, а норовит – при всех неразумных и порою неконституционных ограничениях – сделать свою работу красиво и с выгодой для обеих сторон…
– Я вам не мужчина, – ответил Степанов, понимая, что остановить себя не сможет уже, столько товарищей погибло, не за себя сделалось страшно – за память.
– А кто ж вы, – удивился парень, – не женщина ведь…
– Я – «товарищ»… Или «гражданин»…
Степанов понимал, что этот дурак просто-напросто не берет в толк то, что ударило его и оскорбило; чего ж тут обидного, мужчина он и есть мужчина.
Ах, как сладостно было слово «товарищ» в Берлине сорок пятого; или во Вьетнаме – «тунжи», или в Чили – «компаньеро», пока не пришел Пиночет и слово «товарищ» стало караться трехлетним заключением в концлагере, ведь оно – классово и исторично.
– Чему вас на политзанятиях учат, совестно, – продолжал Степанов, отдавая отчет, что говорит он не то, надо позвонить начальству, рассказать об этом, толковать же с этим типом – бесполезно…
– Это мы знаем, чему на политзанятиях учат, а вы свои документы покажите, мужчина…
– Ну, мерзавец, – сказал Степанов, – ну, сукин сын, пойдем в отделение, пойдем сейчас же!
И конечно же сосудик прижало; сердце замолотило в горле; все верно, человек человеку друг, товарищ и волк, как же таких дуборыл берут, как им дают форму, они же – надев форму – олицетворяют не что-нибудь, но власть?!
– Накажем, Дима, – сказал (в Москве уже, в министерстве) генерал Гаврилов; раньше был Сережей (впрочем, им же остался, слава Богу, нос не задрал), вместе учились, вместе выходили на ринг.
Наказать, однако, не удалось: с места на Степанова пришла телега, сработали мгновенно, мол, оскорблял сержанта, тот был корректен, а что «мужчиной» назвал, так разве ж это неверно? Мог бы – ненароком – и дедом, все, кому за пятьдесят, вполне могут быть дедами. А вот столичному гостю неприлично себя так вести, попусту кричать, а потом валидол сосать – наверняка хотел отбить запах водки, такого коллектив не простит, напишет письмо, сообщит по месту работы, потребует наказания.
Гаврилов тем не менее спустил дело на тормозах, попросив провести беседы с личным составом по поводу обращения к трудящимся. Никаких «мужчин» и «женщин», что за обезличка, право, только «товарищ» или «гражданин», и чтоб честь не забывали отдавать…
После разговора с Гавриловым, чувствуя разламывающую тяжесть в затылке (погода меняется, Галина Ивановна верно говорила, сосуды, как тряпки; только отчего перламутрового цвета, как-то не вяжется, перламутр ассоциируется с эластичностью), Степанов позвонил на киностудию. Он торопился из Ялты в Москву потому еще, что съемочная группа показывала материал, надо посмотреть и не сорваться, оттого что режиссеры поразительно цепляются за каждый кадр, а любое замечание сценариста воспринимают, как вылазку пятой колонны, заговор против фильма. Забывают они, что ли, – ведь первой в титрах стоит фамилия сценариста; он придумал вещь, режиссеру она понравилась, приглянулись герои, фабула, диалоги, попросил право постановки… Странно, подумал Степанов, отчего-то всегда, после того как начинаются съемки, режиссер считает необходимым переписать диалог, заменить деда на бабку (да здравствует Карел Чапек с его рассказами про то, как делается фильм, гениально!), ввести нового персонажа и жаловаться всем в коридорах студии, что он наново сделал сценарий, прежний был дерьмом. Зачем же тогда брался снимать?
– Дмитрий Юрьевич, очень вас ждем, – сказал заместитель директора съемочной группы (их три, заместителя-то: плати директору две зарплаты, ни одного зама не надо, прямая выгода, ан нет, не хотим шелохнуться, величавая неподвижность, как бы не поколебать устоявшееся). – Просмотр материала назначен на восемь.
Режиссер – перед началом – нудно и бессвязно говорил про то, каким будет фильм, какова его сверхзадача, объяснял героев (будто бы не я их писал, подумал Степанов), мотивировал необходимость изменения сюжета; после пригласил в свою комнату; Степанов чувствовал, что говорит в пустоту, – когда у человека глаза похожи на те, какие бывают у вареных судаков, убеждать нет смысла; есть люди, которые верят только себе; они обречены на гибель в искусстве; раз повезет, другой раз обрушатся; чувство исключительности целые страны приводило к краху, не то что молодого режиссера.
…Вернулся домой в половине одиннадцатого, поставил кастрюлю с водой, – жидкий геркулес с оливковым маслом и протертым сыром – самая любимая еда, – просмотрел газеты, за время поездки в Ялту их скопилось множество; телефонный звонок испугал отчего-то – поздно уже; звонил Лопух.
– Здорово, старик, привет тебе.
– Добрый вечер, Юра… Как ты?
– Звоню, чтобы попрощаться.
– Куда уезжаешь?
– Да никуда я не уезжаю. Просто рак у меня.
Степанов прижал ухом трубку, прикурил сигарету (из Штатов перестали поставлять какую-то гадость для советских «Мальборо», крутись теперь, попробуй достать, а привычка – вторая натура, ничего не попишешь), тяжело затянулся:
– Да брось ты, Юра, какой, к черту, рак?! Неужели ты веришь эскулапам?!
– Старик, рак. Легких. И вроде бы желудка.
– Значит, надо оперироваться.
– Что я и собираюсь делать в ближайшие дни.
– И все будет в порядке.
– Верно. Я ведь не просто так в онкологию ложусь, я иду в атаку на старуху с косой, я за своего Дениску иду драться, он же еще маленький, а я должен его хотя бы пару лет опекать, как он без меня будет?! Я отношусь к врачам, как к союзникам, я им буду во всем помогать… Думаешь, я не понимаю, как много зависит от меня?! Я не боюсь, нет, Мить, и не потому, что дурак, у которого представления не работают, просто будет очень несправедливо, если что случится именно сейчас… Все-таки Дениске только одиннадцать, Катя выйдет замуж, а дети трудно привыкают к отчиму: или уж в самом раннем детстве, или лет в семнадцать, там армия, друзья, нет трагедии, нормальный ход…
– Погоди, Юра, погоди, ты что-то слишком рационально мыслишь для ракового больного… Потапова помнишь?!
– Какого? Игоря?
– Да. У него ведь тоже рак нашли, а потом оказалась вполне пристойная язва…
– Митя… Старик… Друг мой. – Лопух вздохнул наконец; потом закашлялся, тяжело, сухо. – Так ведь у него стрессов было поменее, чем у меня…
Это верно, подумал Степанов, стрессов у Потапова было мало, растение, а не человек, главное, чтоб вовремя «бросить в топку», ел по минутам, а Лопуха, бедолагу, сняли с работы за то, что его заместитель оказался проходимцем, жена после этого ушла, ютился по койкам, пока Степанов не пристроил его на «Мосфильм», администратором; Лопушок вновь поднялся, доказав свое умение работать, стал директором, лихо вел картины, но внутри-то кровоточило постоянно, нет ничего горше, чем несправедливое наказание, вот его и шандарахнуло; одно слово, стресс, когда только и кто его придумал?! Ведь сам по себе факт существовал во все времена: кого любимый обманул – стресс; у кого коня увели – тоже; не первую ведь тысячу лет такое в мире происходит, а на тебе, слово изобрели совсем недавно, краткое слово, определяющее то, что угрожает каждому; стресс, и все тут, любому ясно…
– Кто тебя смотрел, Юр?
– Самые хорошие врачи… Я верю им абсолютно… И я не намерен так просто сдаваться, я буду бороться не на жизнь, а на смерть, как под Минском, в сорок четвертом…
Он же ветеран, подумал Степанов, ему тогда было семнадцать; в шестидесятых еще не было сорока, в семидесятых – пятидесяти, а в восьмидесятых – седьмой десяток пошел, рубеж, словно Рубикон, как же коротка жизнь, сколь стремительна…
– Юрок, я могу чем-нибудь помочь тебе, брат?
– А ты мне помог. Поэтому я и звоню, чтобы на всякий случай попрощаться, Мить. Я мало кому звоню, я только тем звоню, кто выдержал испытание на дружбу…
Каша подгорела, не говорить же Лопуху: «Подожди, я газ выключу, геркулес коптит», – нельзя такое говорить, когда с тобою прощается друг, сиди и смотри, как чадит кастрюля, и вспоминай то время, когда вы были молоды, ты – совсем молодым, а он – сорокалетним, только поседел в одночасье, резко сдал, боль в себе носил, как занозу… Любимая присказка была у него тогда: «Будем жить». Поди сочини такую, не сочинишь, это должно отлиться; неужели только боль дает ощущение истины в слове? Как-то несправедливо это; боль, подобно псам, цепляет за икры человечество, которое устремлено к счастью и радости, к любви и дружеству, не к страданию же, право?!
Впрочем, бабка Юры каждую субботу ходила на паперть просить милостыню, чтоб люди видели ее страдание, а Юра уже тогда был инженер-майором, посылал в деревню деньги ежемесячно, дом ей отремонтировал, кур купил и козу, так ведь показывала миру страдание, которого не было, а радость – от того, что внучек человеком стал, – скрывала. «От сглазу, что ль?» – спросил ее Юра. «Нет, – ответила бабка. – Он – терпел и нам велел, страдание – угодно, а радость – греховна, так нас батюшка в церковно-приходской учил, а батюшка злого не скажет».
…В одиннадцать позвонили из редакции; Игорь стал членом коллегии, вел иностранный отдел, попросил написать о Никарагуа.
– Надо бы в номер, – сказал он. – В Сан-Хосе взорвалась бомба, угрохало человек сорок, и предателя Пастору, говорят, ранило. Ну и «Свобода», ясное дело, покатила бочку на Манагуа… Так вот, не ранило Пастору, был спектакль, хорошо поставленный спектакль с трупами. Пастора отдал своих, тех, видимо, которые решили от него уйти. Сценарий старый, обкатанный, ты был и в Коста-Рике, и в Никарагуа, напиши, старик, материал в номер, а?!
– В номер не успею, – ответил Степанов, – а завтра сделаю, надо ж поднять материалы, как-никак Пастора был «команданте зеро». Делать очерк просто так, чтобы отписаться, – нет смысла, народ в Манагуа уж больно хороший, дело чистое, тут надо копнуть проблему предательства; Пастора ведь не сразу ушел, он поначалу был вместе со всеми, а потом посчитал себя обойденным почестями, темечко не выдержало славы; путь в термидор начинается в тот день и час, когда один из участников движения ощущает себя обойденным овациями и вместо местоимения «мы» все время слышит в себе грохочущее «я»…
Игорь усмехнулся:
– Ты что, против принципа выявления индивидуальности?
– Наоборот, за. Чем индивидуальнее каждое «я», тем крепче общество.
– То бишь «мы», – заключил Игорь. – Спасибо, старик, завтра жду комментарий.
– Ладно… И поговори с ребятами из отдела очерка, пусть подумают над материалом о том страшном обращении, которое родилось, – «мужчина» и «женщина».
– Так напиши сам! Они с радостью напечатают, вон ведь Солоухин предлагал восстановить «сударя» с «сударыней».
– Между прочим, я – за… Ты, кстати, Астафьева читал?
– Что именно?
– Его публицистику. «Мусор под лестницей».
– Читал.
– По-моему, великолепно. В моем прагматическом черепе родилась статья – ему в унисон – по поводу многочисленных идиотских «нельзя», которые страшны тем, что крадут у нас главное богатство общества – время. Почему оформлять покупку машины должен я и тратить на это день, принадлежащий государству, вместо того чтобы поручить это юристу или нотариусу, оплатив за услугу по государственному прейскуранту? Почему не открыть тысячу кооперативных бензоколонок, чтобы люди не простаивали в очереди часы, принадлежащие государству? Зачем не передать первые этажи под кафе, закусочные, бары, чайные, трактиры, дабы люди не выстаивали в очередях долгие часы, чтобы попасть в ресторан или кафе, а неудачники, которым так и не досталось места, не отправлялись гулять в подворотню? Кто мешает давать трудящимся землю в аренду? Ведь и у торга будут меньше требовать, и в субботу и воскресенье люди при деле, а не на диване или во дворе – при козле! Почему нет посреднических контор, которые бы помогали мне и в том, чтобы купить нужную книгу, сделать ремонт квартиры, построить домик на садовом участке, сдать на комиссию автомобиль? Это же экономия миллионов часов, а каждый час имеет свою товарную стоимость, потеря его – невосполнима.
– Покупаю тему, – вздохнул Игорь. – На корню. Готов доложить завтра на редколлегии. Как будет называться материал? «Удар по родному разгильдяйству»? Или «Реанимация родимого “тащить и не пущать”»? Подумай над заголовком, чтобы не очень пугать наших ретроградов.
В половине двенадцатого позвонила мама.
– Меня очень беспокоит Лыс, – сказала она сердитым голосом; «Лысом» называла младшую дочь Степанова. – Экзамены на носу, а у нее совершенно запущена физика.
– Мамочка, но в актерском училище физика не требуется.
– Ты не прав. Физика нарабатывает дисциплину… Надя ей во всем потворствует. Это все из-за того, что вы живете поврозь…
Степанов закурил снова, затянулся:
– Ну и что ты предлагаешь?
– У меня стенокардия. В больницу надо…
Господи, подумал он, как же мама любит лечиться! Она обожает придумывать себе болезни; сначала была бронхиальная астма, и лечил ее в конце тридцатых известный испанский профессор Банифаси, сбежал от Франко, жил в Москве, великий был врач; потом мама долго обследовала печень и желудок. Ей казалось, что у нее язва. Когда диагноз не подтвердился, была огорчена.