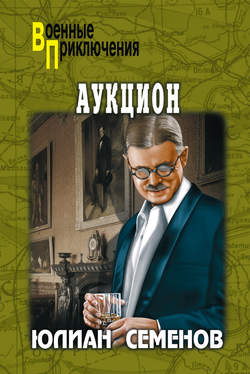Читать книгу Аукцион - Юлиан Семенов - Страница 6
Часть первая
4
ОглавлениеПрочитав копию очередного перехвата телефонного разговора Степанова с князем, Джос Фол отправился в служебную библиотеку, подошел к любимой своей полке, где стояли справочники «Кто есть кто», достал Энциклопедический словарь, изданный в Москве, открыл двести двадцать пятую страницу и внимательно прочитал заметку о Врубеле Михаиле Александровиче, 1856 года рождения, русском живописце, произведения которого отмечены декоративностью и драматической напряженностью колорита, «кристаллической» четкостью, конструктивностью рисунка; тяготел к символико-философской обобщенности образов, нередко принимавших трагическую окраску… Иллюстрировал «Демона», сделал росписи Кирилловской церкви в Киеве; произведения прикладного искусства, близкие к стилю модерн…
Фол не поленился открыть восемьсот двадцать восьмую страницу того же Энциклопедического словаря и посмотрел разъяснение по поводу модерна, из коего явствовало, что это стилевое направление было типично для европейского и американского искусства конца прошлого – начала нынешнего века… Стремясь преодолеть эклектизм буржуазной художественной культуры, модерн использовал новые технико-конструктивные средства и свободную планировку необычных, подчеркнуто индивидуализированных зданий, все элементы которых подчинялись единому орнаментальному ритму и образно-символическому замыслу (X. ван де Ведде в Бельгии, Й. Ольбрих в Австрии, А. Гауди в Испании, Ч.Р. Макинтош в Шотландии, Ф.О. Шехтель в России). Изобразительное и декоративное искусство модернистов отличают поэтика символизма, декоративный ритм гибких, текучих линий, стилизованный растительный узор…
На этой же странице, только чуть ниже, модернизм определялся как общее направление искусства и литературы (кубизм, дадаизм, сюрреализм, футуризм, экспрессионизм, абстрактное искусство и т. п.), отражающее кризис буржуазной культуры и характеризующееся разрывами с традициями реализма…
Вернувшись к себе, Фол довольно долго листал старые записные книжки, потом достал из нижнего ящика стола специальные альбомы для визитных карточек (на каждой стояла дата, краткая характеристика человека, вручившего ее, и, конечно, город, улица, номер дома), отобрал тот, который был укомплектован именами и фамилиями критиков, экспертов по живописи, репортеров, освещавших наиболее интересные аукционы произведений искусства, проводимых лондонской фирмой «Сотби», медленно перебросил каждую страницу, заставляя себя вспоминать лица людей, заложенных в это его личное досье, и, наконец, отложил три визитки: Мишель До, обозреватель «Ивнинг пост» по вопросам театра, кино, телевидения и живописи, работал в Праге, Лондоне, Берне, Москве; жгучий брюнет, лет сорока, нет, сейчас уже больше, познакомились в позапрошлом году; хороший возраст, время выхода на финишную прямую, никаких шараханий, устоявшаяся позиция; Юджин О’Нар, владелец картинной галереи «Старз», и Александр Двинн, посреднические услуги при страховании библиотек, картинных галерей и вернисажей, устраиваемых крупнейшими музеями мира.
Мишеля До, однако, ни в Вашингтоне, ни в Нью-Йорке не было, телефонный автомат-ответчик пророкотал голосом журналиста, что тот вернется в конце недели, сейчас отдыхает на Багамах, просит оставить свой номер, позвонит немедленно по возвращении в конце этой недели.
Юджин О’Нар был на месте; предложение поланчевать принял сразу же; уговорились встретиться в рыбачьем ресторане на берегу Потомака, прекрасная кухня, тихо; Александр Двинн попросил назначить ужин на девять; у меня люди из Прадо, объяснил он, возможен вернисаж Эль Греко, идет трудный разговор о том, как транспортировать картины – самолет или корабль, все доводы о том, что корабли тонут чаще, чем бьются самолеты, на людей из Мадрида не действуют, что вы хотите, потомки Колумба, мореплаватели, отсталая нация, отрыгивают инквизицию и Франко, живут представлениями начала века…
После этого Фол поднялся в досье, запросил все данные на русского художника Врубеля, 1856 г. р. (помимо, естественно, информации из справочников), на членов его семьи; живут ли в России, на Западе ли, если да, то где; особенно выделил вопрос о том, не был ли Врубель связан с большевиками, подобно Маяковскому (он понимал, что этот вопрос наверняка вызовет ироническую улыбку заместителя шефа подразделения информации, ничего, пусть улыбается, улыбка – не укус, можно пережить, русские – люди непредсказуемые, их суть определяют таинственные пересечения, непонятные прагматической логике западного человека; только там бизнесмен Морозов мог давать деньги на революцию, причем не кому-нибудь, а людям Ленина; смешно даже представить себе, чтобы наш Рокфеллер или Морган давали деньги бунтарям), и наконец сформулировал последний вопрос таким образом, чтобы получить исчерпывающий, однозначный ответ: действительно ли Врубель представляет для русских историческую, художественную или иную любую ценность, и если да, то почему?
По прошествии мгновений зеленоватый экран телевизора-ответчика засветился своим окаянным, пугающим светом, забили молоточки ЭВМов, отстучав два слова: «нет информации».
И все. Никаких иллюзий, будь проклята объективность техники; нет ничего слаще и надежнее людских слухов и мнений, их бы запускать в компьютеры, и не только на дипломатов и разведчиков, но и на модернистов; пусть надо мною смеются, перетерпим, все великое начинается с мелочи, как, впрочем, и все великое кончается малостью.
Юджин О’Нар носил в петличке темного пиджака (шил только в Париже) розетку какого-то странного ордена (скорее всего ливанского); причесывался каждое утро у парикмахера, хотя давно уже начал лысеть, как-никак семьдесят два; суждения его были безапелляционны и поучающи.
– Послушайте, Джос, хитрить со мною вам не по плечу, я учился хитрости, когда меня бросали с парашютом во Францию, в сорок третьем. Да и кроме того, я ирландец, я не «мак», то есть «сын», я «о» – О’Нар, то есть «внук», это еще престижнее. За мною предки – пять столетий борьбы против британских оккупантов. Мы из Ольстера, умеем не только гранаты кидать, но и вступать в необходимые для родины коалиции, будь то король Испании или двор Людовика, читайте историю… Ergo: говорите правду. Что вас интересует конкретно? У вас хорошие связи, а это в наше время ценнее денег, я помогу вам, но при условии: игра в открытую.
– Я люблю втемную только в покере, Юджин. Я действительно интересуюсь русским художником Врубелем, его письмами, покровителями, коллекционерами, отношением к нему в мире живописцев…
– Странный интерес… к странному художнику… Это русский Ван Гог. Врожденная маниакальность; родовая травма или дурная наследственность… На аукционах идет довольно неплохо… Хотя, на мой взгляд, краски его несколько странны, словно у человека, который может кричать, но от страха лишился голоса… Размеры его живописи впечатляют, но в полотнах заключена какая-то нервность… Очень нравилось семейству Клайфердов, он-то наш, а жена то ли из Киева, то ли из Москвы. Они покупали его полотна в Париже и Женеве. Кажется, году в семьдесят третьем или пятом, могу ошибиться, цена была пристойной, но не сумасшедшей, как на Пикассо. Что-то восемь тысяч долларов к продаже. Торги дошли до пятнадцати, не более того. Да, пятнадцать, Клайферды уплатили пятнадцать, я получил эту информацию от Саймонза, он тогда ставил на русскую живопись, хотел собрать коллекцию для Штатов.
– Коллекцию одной лишь русской живописи?
– Да.
– Резон?
– Какой-то фонд, из тех, что работает на Центральное разведывательное управление, обещал ему поддержку. Видимо, политическая акция, ставка на обиженных и гонимых в России…
– Отчего же он не купил Врубеля?
– Он не смог купить не только Врубеля, но и Рериха, Пастернака-отца, Малявина… Все-таки фонд – это фонд, а банк Клайферда располагает большими возможностями, когда речь идет о приобретении тех картин, в которых заинтересована мадам…
– А как ценится Врубель в России?
– Джос, я ничего не знаю про эту страну, кроме того, что там правят коммунисты… Я пытался начать бизнес с их художниками, которые уехали на Запад, но из этого ничего не получилось.
– Отчего?
– Странные люди… Вы вообще-то знаете, как мы создаем художника?
– Нет.
– Объясню. Вы, как дипломат, занимавшийся вопросами культуры, должны понять систему создания имен в искусстве… Итак, мне сообщают, что в некоем городе появился талантливый молодой – обязательно молодой, – или, на худой конец, совершенно не приспособленный к жизни художник. Естественно, никто у него ничего не покупает, нет денег на квартиру, на краски, на холст и на аборт спутнице жизни.
– Если талантлив, отчего не покупают?
– О том, насколько он талантлив, мне скажут эксперты, занимающиеся ситуацией на рынке. Если меня убедят, что конъюнктура в нашу пользу, я поговорю с людьми прессы. Затем начну зондаж моих клиентов из мира большого бизнеса, которые строят новые дома и хотят иметь свою живопись. Лишь после этого я вызову художника и предложу ему договор: я снимаю тебе, молодой Рубенс, ателье, плачу за страховку, краски, холсты, электричество, воду, телефон, еду, а ты за это отдаешь мне свою живопись… Всю, целиком. Если он согласится – а он согласится, ибо безвыходность жизненной ситуации толкает на все, – мы оформим наши отношения у юриста, срок – три года, не меньше, мне это влетит в пару тысяч долларов за месяц, талант стоит того, семьдесят две тысячи долларов за три года, да плюс еще тысяч десять прессе и не менее двадцати – телевидению…
– Для рекламы?
– Конечно… И пару тысяч на организацию слухов по поводу нового гения. Кстати, самое эффективное в рекламе – именно это, хотя стоит дешевле всего остального.
– А как вы организуете слухи?
– Очень просто… Устраиваю коктейль по поводу приезда в Вашингтон великого испанского ученого, сводного брата Сальвадора Дали…
– Но у Дали нет сводного брата…
– Спасибо за уточнение, я это знаю лучше вас… Нанимается испанец, какой-нибудь старый актер, показывается приглашенным меценатам, говорит, что Сальвадор в восторге от моего подопечного, гений, потом его быстренько накачивают виски и уводят почивать в отель, а мои сотрудники начинают выдавать тайну об этом молодом гении, который вот-вот завоюет Европу; качественно новый стиль; надо покупать, пока не взвинтили цены до уровня шагаловских; «старый черт, – это я, как понимаете, – никому его не показывает, бережет, хочет сделать бизнес»… Шар запущен. Мне начинают звонить. Я открещиваюсь, говорю, что речь идет о человеке, которого еще надо опробовать на вернисаже, нет смысла продавать товар, не прошедший оценки прессы и экспертов, – словом, темню… Но интерес уже проявлен. Слух обрастает мясом, наступает время устроить вернисаж и организовать три статьи – одну разгромную: «хулиганство от искусства»; другую восторженную: «старый ирландец вновь открыл талант, цены невероятны, по самым приблизительным подсчетам, картина размером семьдесят сантиметров на сорок пять идет за десять тысяч»; и третью, самую главную, в которой будет сказано, что шараханье из одной крайности в другую чуждо свободному обществу, мы не должны ни захваливать, ни хулить чрезмерно, однако, объективности ради, стоит заметить, что новый художник конечно же через два-три года станет украшением лучших музеев мира, поэтому, видимо, стоит ожидать торгов на его полотна для наиболее престижных коллекций, потом будет поздно, все разойдется по частным собраниям. Это – мой пассаж, как понимаете; бьет без проигрыша. Десять банкиров, которые купят работы нового гения, вернут мне с лихвой все то, что я затратил на него за три года… Пару лет он будет моим, потом выпорхнет из рук, Бог в помощь… Гений создан, да здравствует гений! Меня он больше не интересует, бизнес кончен, на вложенную единицу капитала я получил куда больше, чем пять процентов, а по Марксу, даже это сверхприбыль…
– Поразительно, – улыбнулся Фол. – Индустрия, истинная индустрия. А отчего у вас не вышло с русскими?
– Один просто-напросто убежал со своими картинами… Сейчас его ищет полиция… А три других спились… Я поселил их в одном доме, думал, как лучше, так они начали писать доносы консьержке, кто к кому баб водит с Пигаль. Они ж в Париже обосновались, я туда к ним летал. Склока, жалобы друг на друга, не хватило нервов, пришлось списать десяток тысяч; цена риска, ничего не попишешь, такова жизнь.