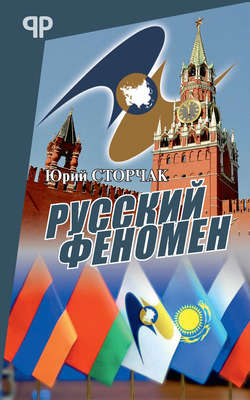Читать книгу Русский феномен - Юрий Сторчак - Страница 4
Глава 1. Вокруг России
1.2. Россия и ее партнеры
Оглавление«Россия – наследник и продолжатель славных традиций всех культур и народов, государств и конфессий евразийского пространства. Мы по праву можем говорить, что являемся правопреемниками не только СССР, Российской империи, Московской Руси и Киевской, но и Волжской Булгарии, Золотой Орды, а также кавказских государственных образований, создававшихся еще сподвижниками пророка Мухаммеда».
Николай Васильевич Гоголь, русский прозаик, драматург, поэт, критик, публицист, классик русской литературы
«Мы признаны, напротив, обучить Европу бесконечному множеству вещей, которых ей не понять без этого… Придет день, когда мы станем умственным средоточием Европы, как мы уже сейчас являемся ее политическим средоточием, наше грядущее могущество, основанное на разуме, превысит наше теперешнее могущество, опирающееся на материальную силу».
Петр Яковлевич Чаадаев, русский философ и публицист, критиковал действительность русской жизни. Его труды были запрещены к публикации в императорской России (из письма своему другу Ивану Сергеевичу Тургеневу, 1835 г.)
Международные организации, крупнейшие инвесторы, санкции – все это вносит свою лепту в жизнь в Российской Федерации. Ей удается с течением времени, аргументами, заинтересованностями в совместных проектах переубеждать и переводить на свою сторону вчерашних убежденных или временных оппонентов, конкурентов, противников.
«Будущее Британской империи может зависеть от того, как будет развиваться ситуация в России, и лично я не могу хладнокровно думать о могучей и единой России со 130-миллионным населением».
Дэвид Ллойд Джордж, 1-й граф Дуйвор, виконт Гвинед, британский политический деятель, последний премьер-министр Великобритании от Либеральной партии (1916–1922 гг.)
«Плохо иметь англосакса врагом, но не дай Бог иметь его другом».
Алексей Ефимович Вандам, генерал-майор, военный разведчик, писатель, автор работ в области геополитики, геостратегии и стратегической географии
Следующая попытка консолидации западных демократий отнюдь не была связана с Октябрьской революцией в России и с последующим строительством социализма в СССР. Военная интервенция США, Англии, Франции, Японии в России и политическое вмешательство этих стран в Гражданскую войну на стороне противников большевиков было периферийной военной акцией, направленной не на свержение красных, а на скорейший разгром Германии. На вызов международного коммунизма и мировой экономический кризис страны Запада ответили не войной, а политической изоляцией дипломатически признанной ими же советской России, созданием так называемого санитарного кордона вдоль ее европейских границ, кооптацией рабочих партий и движений внутри западных стран, серией социально-экономических реформ. Такой асимметричной, но эффективной была реакция западных правящих кругов на политику, проводимую III Интернационалом.
Окончание холодной войны разрушило «второй мир», в который входили тогдашний СССР, страны социалистического содружества, и создало феномен современного политического Запада.
После завершения холодной войны на Западе существует несколько противоречивых тенденций.
Одна – феномен расширяющегося Запада. На глобальном уровне происходит: распространение и институтов либерализма, демократии, рыночной экономики, гражданского общества в Восточной Европе, Латинской Америке, ряде стран Азии; расширение институтов коллективного Запада – НАТО, ЕС, системы союзов США. Несмотря на очевидные проблемы, оба процесса успешны, поэтому все труднее называть расширяющееся общество в географическом и цивилизационном отношении западным. Католические и протестантские страны Центральной Европы и Балтии могут считаться возвращенными в Европу, как в лоно западной цивилизации. Однако тяготеющие к НАТО и ЕС большая часть Балкан, страны «новой» Восточной Европы и Южного Кавказа в культурном смысле не Запад. Расширение географии стран «нового Запада» делает новое сообщество в культурно-цивилизационном отношении менее западным.
Другая – феномен разделяющегося политического Запада. Он перестал быть единым в силу различия интересов компонентов современного международного общества. Холодная война была исторической аберрацией, когда доминировал единственный интерес выживания Запада и его институтов в противостоянии с СССР и международным коммунизмом. Расширяющийся и разделяющийся Запад остается целостным интегрированным обществом.
Современный Запад представляет собой систему институтов, обеспечивающих свободу личности, защиту частной собственности, верховенство закона, свободу предпринимательства, политический плюрализм, уважение и защиту прав меньшинств, религиозную свободу и т. п. Любое общество, в котором действуют эти институты, может считаться западным вне зависимости от своих географического расположения, культурных и цивилизационных корней.
В отношениях России с ведущими европейскими членами НАТО и Японией достигнут уровень взаимодействия, при котором война между РФ и Германией столь же маловероятна, как между Германией и Францией.
РФ и США продолжают политику взаимного ядерного сдерживания.
Интеграция отражается на идентичности интегрируемой страны, ее самобытности, месте и роли среди других геополитических единиц. Идентичность государства связана с его характером, позиционированием в международной системе, амбициями его элит и самоощущением нации. Идентичность страны может быть потеряна вместе с государственностью, как это произошло с Польшей в 1795–1918 годах, радикально изменена, подобно Второму и Третьему рейхам, послевоенным ФРГ и ГДР, нынешней объединенной Германии. Самобытные народы могут приобрести идентичность, как это сделали в том числе республики бывшего СССР, став независимыми государствами.
Национальная идентичность имеет свойство сохраняться даже тогда, когда параллельно ей возникает и усиливается наднациональная, в частности европейская.
Многовековое, с середины XVI века, существование России в качестве державы сформировало соответствующий характер ее власти государственности. В отличие от морских империй Англии, Франции, Голландии и др., но подобно османской Турции, Россия практически интегрировала присоединяемые области в «Большую Россию». СССР попытался решить национальный вопрос всесторонней интеграцией окраинных республик с историческим ядром государства и формированием на этой основе «новой исторической общности – советский народ». На международной арене СССР проводил политику «социалистической интеграции» союзников и был центром притяжения стран социалистической ориентации. ЦК КПСС направлял деятельность коммунистических, левосоциалистических партий и национальных движений в большинстве стран мира. Стремление элит РФ играть самостоятельную международную роль в европейском, евроазиатском и глобальном масштабах является производной исторического опыта России и вынесенного из него представления о ее роли в мире.
Идентификационные характеристики той или иной страны на исторических дистанциях не являются постоянными. В XX веке Россия дважды резко изменила свою идентичность – в 1917 и 1991 годах— и осуществила несколько ее корректировок – в середине 1920-х, середине 1940-х и конце 1980-хгодов.
«У России было два реализованных ею выбора: самодержавие и социализм; были два грандиозных сооружения на их основе, и оба рухнули.
Российские либералы утверждают, что фактически с конца XX века Россия стоит перед выбором – либо в Византию, либо в Европу.
Казалось бы, какие могут быть сомнения на сей счет? Какая может быть еще национальная идея реальнее и яснее, чем путь в Европу?
Но российская власть, даже выбрав капитализм, не хочет и не может отказаться от самодержавности, а общество дезориентировано, не организовано, плохо знает, чего хочет. Отсюда – характерная амбивалентность элитного и общественного мнения, межеумочность российской внешней политики, оставляющая Россию в “подвешенном состоянии”».
Юрий Николаевич Афанасьев, советский и российский политик и историк, ректор Московского государственного историко-архивного института (1986–1991 гг.), основатель, а также ректор (1991–2003 гг.) и президент (2003–2006 гг.) Российского государственного гуманитарного университета
Мощнейшим фактором самоидентификации России является ее патриотическое сознание. Начиная с Петра Чаадаева, либеральный взгляд на ее историю, как правило, категоричен в выводах: она – предостережение другим народам. Рассуждая таким образом, либералы подрывали свои позиции, но и усиливали оппонентов. Западничество является составной и наиболее прогрессивной частью российской внутри- и внешнеполитической традиции.
Со времен правления последнего царя всея Руси и первого Императора Всероссийского, представителя династии Романовых Петра I Алексеевича, прозванного Великим, Россия являлась составной частью европейской геополитической системы в качестве одной из великих держав и периодически совершала «модернизационные рывки», опираясь на опыт Западной Европы. В XVIII–XIX веках Россия была непременным участником, предполагавшей постоянные многосторонние коалиции в многочисленных войнах, системы баланса сил на Евразийском континенте. Российская элита, сознательно ориентируясь на французские, немецкие, английские образцы, направляла развитие своей страны по западному пути. После разгрома Наполеона император Александр I играл выдающуюся роль на Венском конгрессе в 1814–1815 годах; Россия была вдохновителем и одним из основателей первой постоянной организации управления международными процессами – Священного союза. До Крымской войны 1853–1856 годов русский император был практически единоличным гарантом стабильности и легитимного порядка в Центральной и Восточной Европе. Во второй половине XIX века Россия вновь участвовала в многосторонних дипломатических комбинациях вместе с государствами Центральной и Западной Европы, пока в начале XX столетия она не связала свою судьбу с прото-Западом – англо-французской Антантой. В то же время Россия периодически «выпадала из Европы», прорывы в сближении с которой сменялись во времена Николая I, Александра III и Иосифа Сталина периодами выпадения из нее.
Коалиция между самодержавной Россией и либеральными государствами Запада основывалась не на общих ценностях, а на геополитических и экономических расчетах. Принимая в Санкт-Петербурге президента Франции Мари Франсуа Сади Карно в 1891 году, Александр II стоя слушал «Марсельезу», но не проникался республиканским и конституционалистским духом. Российские либералы – часто англо- и франкофилы, хотя и занимали высокие должности, но были в меньшинстве при царском дворе, а впоследствии в Государственной думе. Правящие классы России начала XX столетия имели гораздо больше общих ценностей с прусскими юнкерами, чем с английскими «лавочниками». В это же время в России быстро развивался капитализм, а геополитика, стратегия и экономика диктовали Санкт-Петербургу союзы с демократиями против родственных авторитарных режимов.
Такие «противоестественные» союзы были сложными в их поддержании. Высокую степень фонового недоверия между Россией и ее западными союзниками продемонстрировала уже Первая мировая война 1914–1918 годов. Но, несмотря на ее колоссальную тяжесть, многочисленные жертвы и отсутствие в ней понятных населению России целей, ее царское, а затем Временное правительство оставались верными союзническим обязательствам. Эта война настолько обострила внутренние противоречия в данной стране, что в ней произошла революция. Руководство СССР вывело свое государство из этого военного противостояния глобального масштаба, заключило сепаратный мир с Германией, но при этом действовало вне- и антисистемно, рассматривая Россию не столько как государство с определенными интересами, сколько в качестве базы мировой пролетарской революции.
Из политического и военного союзника Запада Россия превратилась в его фактического противника, из потенциального победителя – в страну, разделившую судьбу побежденных. По мнению многих русских эмигрантов, Запад не оценил этой жертвенности и обошелся с ослабевшей Россией вполне прагматично. Он не оказал действенной помощи силам контрреволюции, признал независимость бывших окраин Российской империи и дополнил большевистскую самоизоляцию внешней изоляцией посредством санитарного кордона. Советская Россия получила формальное признание Запада, но до середины 1930-х годов и затем с 1939 года до нападения Германии на СССР оставалась вне рамок сообщества государств.
Период непризнания Западом власти большевиков длился менее пяти лет – практически столько же продолжалась Гражданская война, а у советского правительства сохранялась надежда на мировую революцию. С 1922–1924 годов СССР был постепенно подключен к мировому сообществу государств в формате восстановления дипломатических отношений. Но Советский Союз оставался вне общества «цивилизованных государств».
Лишь в 1934 году он в качестве прямой реакции западных держав на решение основоположника и центральной фигуры национал-социализма основателя тоталитарной диктатуры Третьего рейха, главы Национал-социалистической немецкой рабочей партии (НСДРП), рейхсканцлера и фюрера Германии Адольфа Гитлера о выходе Германии из Лиги Наций был в нее принят. Аналогичными соображениями руководствовалась и признавшая СССР в ноябре 1933 года администрация 32-го президента США Франклина Делано Рузвельта. Уже в 1935 году Франция и союзная ей Чехословакия заключили договоры о взаимопомощи с Советским Союзом. Однако сближение на геополитической основе было непродолжительным.
Недоверие правящих кругов Лондона и Парижа к коммунистическому режиму и России, а также аналогичный подход к «империалистам Англии и Франции» со стороны Москвы сделали невозможным создание действенной системы коллективной безопасности в Европе. Руководитель Советского Союза, его маршал и генералиссимус Иосиф Виссарионович Сталин рассматривал англо-французскую политику умиротворения рейхсканцлера и фюрера Германии, Верховного главнокомандующего ее вооруженными силами во Второй мировой войне Адольфа Гитлера как объективно направленную против СССР и делал аналогичные расчеты. На Западе надеялись, что Гитлер повернет на восток, Сталин рассчитывал, что Германия сначала начнет войну на западном фронте. Сталин и западные руководители предполагали, что Германия и ее противники измотают друг друга в затяжной войне.
Несмотря на взаимную неприязнь Запада и СССР, гитлеровская Германия была для них наиболее опасным противником. Однако преобладание тактического маневрирования над стратегическими ходами, неспособность договариваться вопреки убеждениям и готовность принимать желаемое за действительное привели к катастрофе. Ведомые слабыми и недальновидными лидерами западные демократии несут такую же ответственность за провал летних переговоров 1939 года, как и Иосиф Сталин, заключивший пакт с Адольфом Гитлером.
После Первой мировой войны и Великой Октябрьской социалистической революции красные и многие белые русские пришли к сходным выводам о роли и месте России в мире. Коммунистические вожди приступили к строительству социализма в отдельно взятой стране. А русские общественные деятели – Петр Николаевич Савицкий, географ, экономист, геополитик, культуролог, философ, поэт; князь Николай Сергеевич Трубецкой, лингвист, философ, правовед, публицист, и их соратники, находясь в изгнании в городе Праге, разработали теорию «евразийства». Представители одной и другой идеологических теорий по разным причинам отвергали «неверный» Запад и противопоставляли ему «отдельно стоящую» Россию.
Включенность СССР в международные экономические, политические, общественные связи в силу этих причин была крайне ограниченной и односторонней. Наряду с США он играл ведущую роль в мировой политике и в военной сфере. Но по причине автаркического характера советской экономики был слабо интегрирован в систему глобальных мирохозяйственных связей и отношений. Советская политическая система требовала централизации и регламентации всех контактов с внешним миром.
У глобализации сложный и противоречивый характер. Ее опорные узлы составляют условный мировой архипелаг, который внутренне связан многочисленными нитями контактов, но окружен образными морями и проливами. На ту или иную страну глобализационные импульсы воздействуют избирательно. Поэтому возникают отдельные анклавы, конгломераты новаций и архаики.
В вопросе о целесообразности и возможности институциональной интеграции с Россией политика Соединенных Штатов Америки колебалась от сдержанности своего 41-го президента Джорджа Герберта Уокера Буша – старшего до энтузиазма 42-го – Уильяма Джефферсона (Билла) Клинтона и прагматической практики антитеррористической коалиции 43-го – Джорджа Уокера Буша – младшего. Администрация США видит РФ «союзником нового типа» в противостоянии международному терроризму, распространению оружия массового поражения (ОМП) и региональной нестабильности.
Провозгласивший своей целью воссоединение Европы ЕС не определил пределы своего расширения. Концепции «широкой Европы», «нового соседства», «общих пространств», большинства лидеров ЕС исходят из того, что РФ может стать партнером объединенной Европы, возможно, «стратегическим» или «привилегированным», но не ее частью.
«По оценкам мирового сообщества, экономически целесообразно проживание на территории России 15 млн человек.
Слабая или сильная, как партнер или как головная боль, Россия всегда имеет значение».
Маргарет Тэтчер, премьер-министр Великобритании (1979–1990 гг.)
Глобализация не ведет к сплошной вестернизации. Усилия Уильяма Джефферсона (Билла) Клинтона в отношении РФ в 1990-е годы были на два порядка слабее, чем в 1940–1950-е годы у его коллеги – 33-го президента США Гарри Эс Трумэна в отношении Германии, Западной Европы и Японии. Действия администрации Джорджа Буша – младшего на направлении демократизации нацелены не на преобразование Большого Ближнего Востока в часть Запада, а на повышение общей управляемости возглавляемой США мировой системы.
«Не надейтесь, что, единожды воспользовавшись слабостью России, вы будете получать дивиденды вечно. Русские всегда приходят за своими деньгами.
И когда они придут – не надейтесь на подписанные вами иезуитские соглашения, якобы вас оправдывающие. Они не стоят той бумаги, на которой написаны. Поэтому с русскими стоит или играть честно, или вообще не играть».
Отто Эдуард Леопольд фон Бисмарк-Шенхаузен