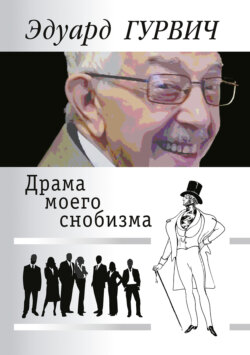Читать книгу Драма моего снобизма - Эдуард Гурвич - Страница 20
Раздел II
Предисловие
ОглавлениеМои эссе, собранные во втором разделе, построены на событийности. Прежде всего, политической. Хорошо помню, что в «Снобе» 2010-х годов мне хотелось донести мысль – свобода на Западе формирует другое мышление, другие привычки, другую мораль, противостоящую всему тому, с чем вылупилась из империи зла Россия современная. Что и явилось предметом дискуссий, споров, темой комментариев. Позже, в попытках понять, отчего в России опять становилось всё серо и коряво, почему после 1991-го года не случилось продвижения к демократии, не выдвинулась когорта новаторов, возглавивших институты свободы, я обратил внимание вот на это объяснение одного из авторов «Сноба» из числа эмигрантов: «В душной атмосфере беспросветно тоталитарного государства, идеологического обслуживания тиранической власти и раболепия перед ней такие люди не появляются, не появляются и соответствующие институты. Античная цивилизация пала на Западе под бременем собственных проблем и натиском великого переселения народов, но сохранившая себя Церковь создала новый, более сильный, дерзновенный и духовно богатый Запад».
Комментируя цитату, я сознавал разницу: автор её – учёный, математик, бывший священнослужитель, а я – ученик, так и не освоивший школьный курс алгебры-геометрии, с грехом пополам прочитавший Библию. Не скрою, время от времени я думаю о вере. Но и только. Я не отмечаю религиозные праздники. Не хожу в синагогу. Но меня просвещает мой сын. Так случилось в праздник суккот. Вдруг получаю его письмо: «Я стою около Бимы – возвышения, куда устанавливают во время службы свиток торы для публичного чтения. Сегодня праздник Ошана Раба – отсюда русское выражение “петь осану“. Я пришлю тебе видео, в котором мы ходим вокруг бимы и поем осану, т. е. говорим ”ошана“ – “помилуй нас“. В течение недели с начала праздника суккот до сегодняшнего дня мы делаем по одному обходу вокруг бимы. А сегодня (в ошана раба, т. е. ’большая осана “) ходили семь раз и тоже пели осану. В этом ритуале ассоциация с падением стен Иерихона, когда еврейские священники обошли семь раз вокруг его стен и они рухнули… Так и мы ходим вокруг Торы семь раз и надеемся, что стены нечистот, отделяющие нас от Неба, рухнут, как когда-то стены Иерихона. В синагоге обычно несколько свитков торы. Каждый из них написан вручную на кожаном пергаменте специальным писцом. На изготовление свитка обычно уходит один год. Как правило, его дарят синагоге состоятельные евреи. Один свиток стоит 6–7 тысяч евро. В Ошана Раба достают из Шкафа все свитки, которые есть. У нас их три: два по краям в вертикальных коробах – это традиция евреев из арабских стран (сефардов). А по середине – свиток, просто покрытый материей – это традиция европейских евреев (ашкенази). А вечером начинаются последние два праздника: Шмини Ацерет и Симхат Тора, то есть “Радость Торы “. В этот день мы заканчиваем читать годовой цикл чтения Пятикнижия. Завтра вечером будет что-то невообразимое… море виски, водки, вкуснейшей еды. Все мужчины будут с этими свитками танцевать с семи вечера и до утра, и петь. Вся бима будет залита алкоголем. Короче, будет сумасшествие!!!!! Всё это закончится тем, что мы будем кувыркаться через голову – т. н. ”Куле“. А во вторник днём ведущего молитву в определённый момент свяжут, поднимут, перевёрнут и окунут головой в таз с ледяной водой, обильно полив ещё сверху Чтобы укрепить силу молитвы о дожде. Готовлюсь к празднику. Знай, что ты всегда в моих мыслях, когда я там молюсь, медитирую или делаю Бог знает что».
Мой сын влиял не только на мои религиозные воззрения, но и знакомил с повадками интернетной публики вообще, с её литературными вкусами и предпочтениями. В частности, от него я впервые услышал про «шуфутинов день 3-е сентября». Наш элитный клуб испытывал постоянное давление со стороны Фейсбука. Досужие авторы тащили оттуда в «Сноб» свои опусы про личностный рост и психотерапевтическую практику, про сущее, про любовные крахи, крохи и утехи. Зачем? Как зачем! Чтобы попытаться стать снобом, повысить свой статус в собственных глазах.
На самом деле, эта публика размывала элитную площадку. Временами Лента «Сноба» для блогеров сплошь состояла из графоманской дребедени. Ничего необычного сведущие критики, впрочем, не видели. Графоманы допекали публичные издания с… пушкинских времён. Я отыскал слова Поэта о волшебном влиянии типографии: «Мы всё думаем: как может это быть глупым или несправедливо? Ведь это напечатано!». На моих глазах в «Снобе» из недр Интернета явился двойник Омара Хаяма в лице некоего Дмитрия С. Не освоив русскую грамматику, он уложил 56 тысяч его досужих идей, пошлых баек и банальных мыслей в 240 томов и издал их в красочных обложках. Всё это добро он перевёл на 30 языков мира. И вот, купив годовую подписку «Сноба», С. ежедневно вываливал на Ленте эссе с фотографиями обложек своих книг. Беспрецедентно. Из-за нашествия подобных авторов мгновенно исчезали полноценные материалы, самобытные литературные эссе. Что было, конечно, досадно.
Но и тут всё оказалось не так просто. Именитые авторы «Сноба» издавались в ЭКСМО, издательстве Шубиной, НЛО и прочих престижных заведениях, пускавших на книжный рынок только своих. Их снобизм, впрочем, был зыбким. Ведь писатели первого эшелона (Сорокин, Пелевин, Юзефович) со своей прозой на «Снобе» не показывались. Не до того им. Погоду в интернетном клубе делали литераторы из второго эшелона. К ним тянулась сомнительная публика, оплатившая подписку на «Сноб». Полагая, что они и есть элита. Именитые же авторы клуба давали повод остальной публике относиться к ним с подозрением, когда они выступали со снобистскими комментариями типа: я прочитал «Этику» Спинозы в 17 лет, это надо знать, загляните в мою ссылку, тогда поймёте, о чём я…. Сноски вместо аргументов, упрёки, высокомерие, а то и презрение к оппонентам удручали необыкновенно. Цель – выставиться, показать свою учёность. Эссе заграничного филолога, выступившего с критикой поправок к Конституции, было набито учёными терминами про рему и тему. Оно било мимо цели, потому что демонстрировало учёность автора, а не попытку уличить в безграмотности национального лидера, представившего проект конституции. Вождь не обязан быть филологом. И златоустом тоже. Всякая внятная власть сильна своим аппаратом. Лидеры меняются, а аппарат остаётся. И если аппарат профессиональный, подобный казус с безграмотным проектом конституции случиться не может. То есть, писать романы – это одно. Скажем, аппаратчик Владислав Сурков это умел. А вот подготовить для Президента страны грамотный документ о поправках в действующей Конституции, чем и должна была заняться его Администрация – это иное. Здесь нужны не только юридические знания, но и навыки филолога, стилиста, лингвиста…
Кстати, у Сталина был вымуштрованный правительственный аппарат, особенно в МИДе. Хотя сам Сталин допускал в своей речи и тавтологию, и грубости, и говорил с акцентом. Но последствия сглаживал аппарат. Вожди, пришедшие ему на смену, и ботинком стучали на трибуне, и напивались, и глупости говорили. Но дипломаты всё умели сгладить, отрегулировать, правильным документом выправить ситуацию… Тут уместно добавить, что Сталин был криминал органический. Его же последователи – обученные в школах служб безопасности. В шпионской работе привитые им навыки годились. А вот, чтобы быть компетентным лидером нации, нужно другое. Потому у Путина не получается. Примечателен в этом смысле запомнившийся мне диалог на «Снобе»:
– У Путина вся власть построена на мафиозной основе, на дружбанах и кумовстве. А это несовместимо с профессионализмом.
– А мне понравился герменевтический ход одного профессора-историка. В юридическом и литературном языке не обнаружилось нормы для иносказания… Очевидно, решили, что во имя судьбоносной цели языком допустимо пожертвовать.
– Похоже, такое объяснение – отсутствие профессионализма – поближе к реальности, чем всякие герменевтические ходы.
Прикинусь придурковатым, чтобы больше не уличать. Вернуться к проницательным и профессиональным авторам. Из всех членов клуба, спустя десять лет, выделяю имя кинокритика Зинаиды Пронченко. Она давно ушла из «Сноба», а я остаюсь в числе её почитателей. Вот мой панегирик тех времён: «Талантливых мало, а среди критиков – единицы. Зинаида образованная, острая, хорошо видящая, когда смотрит на экран. Мыслит, когда пишет. Умеет выразить одним словом, одной фразой то, что сразу не понять, если не перечитать и раз, и два, и не начать думать. Фильм “Офицер и шпион“ Романа Полански я не видел. Но такое впечатление, что видел. На полутора печатных страничках Зинаида выложила биографии – наши, зрительские, Дрейфуса, а главное, режиссёра Полански. Рассказала об эпохах, о сломе Времён, о Франции и её великой культуре, о литературе и живописи, о морали и Том свете, “куда каждый заходит поодиночке “. Наконец, о наших плоских биографиях (это о зрителях, если что), и о биографии Полански, который видел и страдал столько за свои 87 лет…».
Зинаида Пронченко, помню, своими рассуждениями о Полански ткнула нас, читателей, носом в главное: «’Офицер и шпион“ лучшая его картина за долгие годы. Он Автор с большой буквы – ’един во множестве персонажей “. И не надо подозревать его, что он создал этот шедевр, чтобы оправдаться. И вообще, для ’вульгарных спекуляций он слишком хитёр и слишком устал… за 50 лет страха и паранойи“».
Запомнились детали трагической биографии Полански, ключевые события его Времени. Роман Полански – Раймунд Роланд Риблинг, родился в Париже в еврейской семье в 1933 году. В 1936-м, когда Роману было три года, семья перебралась на родину отца в Краков. Во время немецкой оккупации семья попадает в Краковское гетто. Мать погибает в концлагере под Люблином. При ликвидации гетто отец договаривается с польской семьёй, которая забирает сына до конца войны, а сам попадает в концлагерь Маутхаузен. Мальчик выживает (он вспоминает, что нацисты использовали его как мишень на стрельбищах), а после окончания войны ищет отца. Тот чудом остался жив. Они встречаются. Отец помогает Роману получить образование. Тот увлекается сначала сценой, а потом связывает свою жизнь с кино. Талантливому юноше протежирует Анджей Вайда: с его помощью Роман попадает в киношколу в Лодзи. Первый фильм в Народной Польше принимают прохладно. И в 1962 году Роман перебирается во Францию. На Западе его фильмы получают премии. Браки. Разводы. Франция – Англия – Америка. И вот в Голливуде в 1977 году его обвиняют в изнасиловании несовершеннолетней. Перед судом он бежит из Америки, когда судья нарушает обещание дать условный срок в обмен на признание вины. Сначала Великобритания. Потом из-за угрозы экстрадиции перебирается во Францию. Его преследуют повсюду. В Швейцарии Полански арестовывают. За него вступается Франция, и его выпускают из страны. Польша обращается к президенту США Бараку Обаме с просьбой помиловать Полански. Безуспешно. Судебные преследования продолжаются десятилетиями. Пересказывая эту биографию, Зинаида с возмущением писала о последней новости: Полански в Париже и не может прибыть на церемонию получения самой престижной французской премии «Сезар» за фильм «Офицер и шпион». Феминистки угрожают линчевать его…
События этой биографии всё-таки следует спроецировать на Время. Оно меняет рамки разрешённого и табуированного. Потерпевшая, став взрослой, давно простила Полански. И это понятно, если принять во внимание, что в 13 лет она была фотомодель – и то, что полвека назад выглядело нормой в Голливуде, теперь представляется иначе. Вешки морали, границы запретов поменялись. Вероятно, потому бывшая фотомодель просила за Полански. Ничего удивительного. Почитайте нашего Пушкина – в 13 лет в России разрешалось выдавать замуж. Есть страны, где это норма и сегодня. Разумеется, глупо искать оправдания Полански. Но нельзя преследовать человека в течение 50 лет. Речь только об этом.
Время меняет наши взгляды не только на мораль, этику, но и на искусство. Саксофонист Алексей Козлов рассказал о драматической истории «Случайного вальса», который запретил Сталин. Слова и музыка сочинены во время Сталинградской битвы. По ссылке в посте Козлова на «Снобе» слушаю вальс в исполнении Утёсова. А затем вдруг попадаю на ужасное исполнение: гламур, слащавая, бездумная, просто вульгарная версия трагического вальса. Снобизму моему нет предела. Читаю подпись: «Праздничный концерт ко Дню защитника Родины. Ансамбль имени Александрова. Кремль». Певец в форме офицера-гвардейца исполняет этот вальс, а в первом ряду сидит Путин. Солист старается, и оттого всё ещё хуже. Вокруг него вьются в вальсе куклы. Но, если знать, что ансамбль в полном составе очень скоро погибнет в авиационной катастрофе по пути в Сирию, на фоне этой трагедии исполнение Евгения Б. звучит иначе.
Ещё о снобизме, но уже без скидок на Время. Один из новоявленных участников клуба в составленной им личке сообщил, что разработал один из вариантов психосоматического подхода, осознал и обнародовал концепцию развития личностного роста, ну, и развенчал миф о существовании болезней. Вообще. Всех. Можно было бы забыть этого фанфарона, если бы не его же изобличающее: «В течение полумесяца я проводил небольшой социальный эксперимент: публиковал свои тексты на ”Снобе“. И одновременно размещал их на Фейсбуке, где прежде я открыл платную группу. Итоги? Мои тексты на ”Снобе “ не нашли особой поддержки. То есть, на ФБ у меня группа платных подписчиков. Люди регистрировались на портале, чтобы читать мои тексты и платили вполне приличные деньги за полугодовую подписку. С текстами ”Сноба“ этого не произошло. Вывод? На ”Снобе“ со мной пытаются вести дискуссию люди, которые гордятся своим невежеством и утверждают, что знаний из Википедии достаточно для того, чтобы разбираться в буддизме, вирусологии, квантовой физике или психосоматической медицине. Простите меня, но ведь это профанация. Потому ухожу».
Простить – не проблема. Но уходить надо бы молча. И с пониманием, что на Фейсбуке он востребован, а на «Снобе» – нет. Даже в сегодняшнем, который катится по наклонной. Дело в том, что горка-то высокая, и потенциал площадки сравним… с богатой в прошлом Англией, распадающейся уже сто лет. Помимо прочего, клуб «Сноб» обладает системой самоочищения. Хотя она срабатывает уже далеко не всегда.
Ну, и ещё. Читаю в блоге «Сноба» у писателя-эмигранта, что «семейная история способна не только радовать и утешать, но и причинять боль». Эмигрант написал роман, содержание которого – семейные альбомы и прочий хлам, вывезенный в Америку. И вот издал эти хроники, скучные и плаксивые. Вместо юмора и самоиронии там «глубинные смыслы бытия… на экране памяти». Уф!