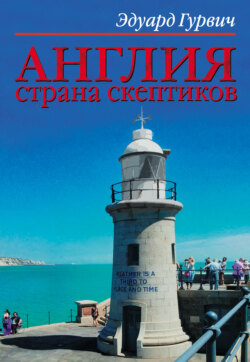Читать книгу Англия страна скептиков - Эдуард Гурвич - Страница 16
Раздел 1. Глазами русского эмигранта
11. Мелочи жизни
ОглавлениеОсенний Лондон 1993 года запомнился мне не только проливными дождями, которые накрывают время от времени всю Англию. Осень – это острая борьба, в частности, борьба партий, где публика подмечает, прежде всего, мелочи. Какого рода мелочи? Ну, скажем, фраза министра финансов Кеннета Кларка: «Всякий враг Джона Мейджора – мой враг, всякий враг Джона Мейджора – враг консервативной партии». Она произнесена на осенней конференции тори в Блэкпуле и вполне отвечает духу, в котором воспитывались мы, советские люди. Потому в наших глазах это не мелочь. Для тутошней же публики, настроенной скептически, такого рода нарочито прямолинейное высказывание, похоже, выпаливается исключительно, чтобы поддразнить её, позабавить, и воспринимается большинством скептически, как нечто несерьёзное своей несуразностью.
А вот другая мелочь. Премьер-министр и его предшественница, Маргарет Тэтчер, на сцене той же блэкпульской конференции лишь пожали друг другу руки, но не поцеловались, как это было прежде. Эта мелочь вновь дала повод говорить об ослаблении позиций премьера, но уже непосредственно в его партии. И всё же современное течение политической жизни Англии пока ещё связывается с термином «мейджоризм». Потому составители краткого Оксфордского словаря английского языка решили ввести этот термин в число четырёх тысяч новых слов. Когда же потребовалось научное определение «мейджоризма», возникла заминка. Крупнейшая лондонская газета «Индепендент» призвала читателей помочь оксфордским тугодумам и объявила конкурс. Условие – дать правильное определение и уложиться в двадцать строк. Победителя ждала бесплатная двухнедельная экскурсия в Маастрихт, где руководители стран Европейского сообщества подписали отнюдь не мелочь, а договор, из-за которого Мейджор имел много проблем. Редакция получила множество ответов. В их числе был и пустой лист с площадью, где должны были уместиться эти двадцать строк, ну, и всякие определения, начинающиеся синонимами типа дубовость, неграмотность, грубость, агрессивность, беззубость, бесхарактерность… Победа досталась скромному пастору из Эссекса Лоури Блейни. В своём определении он связал «мейджоризм» как форму коллективной ответственности, при которой лишь отдельные чиновники теряют свои посты, с «минеризмом» и «майнеризмом», когда в конце концов в результате сокращения рабочих мест теряют работу все. В этом определении было особенно много смысла для английских шахтёров, которые попали в катастрофическое положение в связи с решением правительства Мейджора закрыть десятки шахт…
Не надо думать, что «мелочи» интересуют публику лишь в политике. В шахматах тоже. Осень 1993 года можно было назвать шахматной. Финальный матч на первенство мира между Гарри Каспаровым и англичанином Найджелом Шортом проходил на сцене театра роскошного лондонского гостиничного комплекса «Савой». Он привлёк внимание лондонцев прежде всего словесной дуэлью. Она предшествовала шахматной борьбе и достигла своего апогея, как только Каспаров прибыл в английскую столицу. Противники обменивались «любезностями» самого разного уровня. Шорт, например, заявил, что Каспаров – старый коммуняка, на что Гарри ответил, что никогда не скрывал этого факта в своей биографии – да, таковы были правила игры в шахматы высшего класса в стране развитого социализма. Поэтому ему пришлось вступить в партию коммунистов. Тогда Шорт объявил, что Каспаров – абсолютно «шерстяной», то есть первобытный, и публике это не мешало бы знать. Оказывается, Найджел увидел во время купания в бассейне, что волосяной покров чемпиона мира превышает все мыслимые пределы, и потому, мол, он является предметом здорового интереса лондонских девиц. Гарри же заявил, что девицы в бассейне даже не смотрели в сторону бедного Найджела, вот он и придумал эту версию – «шерстяной»…
Мелочи играли решающую роль и в освещении самого матча. Когда Найджел уже безбожно проигрывал, в Королевской ложе театра «Савой» во время матча появилась принцесса Диана. В момент выхода Найджела она неистово аплодировала. Но Шорт, как писали газеты, проиграл эту партию именно из-за Дианы. Он так разволновался, что не мог сосредоточиться до конца партии, хотя Диана покинула зал спустя двадцать минут. Каспаров же, напротив, даже не обратил внимания на присутствие принцессы, в чём, правда, винился, ссылаясь на сосредоточенность. Нельзя сказать, что шахматные наблюдатели подобрели к Шорту после единственной выигранной им шестнадцатой партии. Они заметили, что у Найджела в этот день был насморк. И объяснили его победу именно этим обстоятельством. На следующий день комментаторы партии желали Найджелу… новых насморков. Но не случилось.
Почему репортёры с такой охотой писали «о насморках»? Почему я, подъезжая в одну из суббот к гостинице «Савой», прежде всего обратил внимание на правостороннее движение в этом маленьком переулке, в отличие от левостороннего во всей остальной Англии? Почему моя память зацепилась не за прекрасный дизайн сцены, где играли шахматисты, а за нарушение его (Найджел не хотел сидеть на одном из чёрных кресел, специально изготовленных к матчу – для долгого сидения, и ему притащили из дома его привычное старое кресло, обитое красной кожей)? Почему я подмечал из зала, что шахматисты одеты не в строгие чёрные костюмы, как вначале, а в пиджаки различных расцветок, что, сидя за шахматным столиком, они обхватывали голову, зажимали уши, вполне по-домашнему почёсывали затылки, двигались по сцене вразвалочку, руки в брюки?.. Почему, рассказывая об этом единственном посещении – билеты на матч были, конечно, очень дорогие, – мне так хочется написать о фойе, где во время партии разбирали каждый ход у демонстрационной доски в баре, где продавали сувениры – шахматные доски, шахматные фигуры, шахматные компьютеры? Почему, наконец, я запомнил не лица гроссмейстеров, подписавших мир в этой партии, а физиономию моего английского приятеля, который сыграл тут, в фойе, блиц с «Фрицем», обвинив этот компьютер, что он закрылся от его сильного хода табличкой «время просрочено!»?..
Да всё по той же причине: мы с этим приятелем, хотя и отгадали один из ходов Гарри, представляли широкую публику, которой всё же в большей степени интересны не шахматы, а шахматное событие мирового значения во всех его мелочах. Эти мелочи дают эффект присутствия. На этих «мелочах» и играем мы все в публике, которой кажется существенной всякая деталь, включая «волосяной покров чемпиона». Это свойство публики хорошо известно не только шахматным репортёрам.
Вот, пожалуйста, ещё факт. Лондонцы прочитали о 26-летней путешественнице англичанке Фионе Камбелл, которая взялась пройти пешком все шесть континентов Земли. Прежде она уже одолела Америку и Австралию. И вот теперь покорена Африка. Камеры показывали Фиону, вышагивающую последний километр из шестнадцати тысяч. Путь этот начался с южной оконечности африканского континента, Кейптауна, и заканчивался на берегу Средиземного моря. Щека Фионы заклеена пластырем, скрывающим травму. Незадолго до финиша она подверглась нападению не вполне нормального аборигена. Но вот она входит в воду со счастливым криком и высоко поднятыми руками…
Как вы думаете, что, прежде всего, заметили фотокорреспонденты и кинооператоры, снимавшие это событие на берегу моря? В вечерней лондонской газете читаю ремарку пытливого репортёра: мол, не надо думать, что путешествие по африканскому континенту было таким уж трудным и без всякого комфорта, если на этом сложном пешем пути Фиона находила время подбривать волосы под мышками. Можно не сомневаться, что этого репортёра захватит вопрос: будет ли Фиона подбриваться во время своего следующего путешествия – на европейском континенте, к которому она уже готовилась. Маршрут её начнётся у берегов Гибралтара и протянется к самой северной точке Европы под названием John о'Groats в Шотландии. И Фиона тоже должна была знать, что журналисты будут заглядывать не только в карту, показывающую маршрут её продвижения… Ничего не поделаешь! Такова профессия репортёра – желать видеть в экстраординарном событии обыденное, в обыденном – экстраординарное. Вопрос тут только в одном – что считать экстраординарным, а что обыденным?
В одном из крупнейших спортивных центров Лондона «Кристал Палас» более тысячи человек одновременно встали на голову. Здесь проводил показательные занятия выдающийся эксперт по йоге 75-летний индийский преподаватель Янгар. Он стоял посередине зала, разумеется, тоже на голове. Тот, кто наблюдал это стояние, могли решить, что это в высшей степени необычно. Для эксперта мирового класса и его последователей – это норма, когда на головах стоят сотни людей.
Жулики стащили более 1200 бутылок старого портвейна и другого вина на сумму около 15 тысяч фунтов. Сама по себе эта кража в наше время не так уж значительна. Но многие англичане, которые хорошо знают колледж Итон как в высшей степени пуританское заведение – именно в подвалах Итона была совершена эта кража, – оказались шокированы. Они не могли представить себе, как попало вино в подвалы более чем святого Итона, кто его пил, когда? Ведь воспитанников на своём примере преподаватели приучали к простой пище и сырой воде.
А вот уж совсем обыденный факт – отыскался старый заброшенный пирс, о котором, между тем, всякий добропорядочный англичанин если не скажет, то подумает: чёрт побери, приятная мелочь! На юго-востоке Англии, неподалёку от Лондона, в Саузенде не так давно промерили этот пирс. Оказалось, что длина его составляет 2 километра 158 метров. Навели справки и выяснили, что этот пирс – самый длинный в мире. Что же представляет собой это сооружение сегодня? А ничего особенного. Пешком по нему мне пришлось идти 20 минут. Собственно, эта осенняя прогулка была в никуда. Пирс пустой. Его заложили ещё в 1899 году. В своё время здесь было оживлённо. На пирсе были кафе, игротеки, даже театр. Но вот пирс потерял своё судоходное значение, и всё исчезло. Помог и пожар. Ныне ржавеющие балки, на которых держится пирс, старательно огибают лишь местные рыбаки. Они-то и рассказывают историю пирса. Ещё мелочь. В одном из сараев внизу, у самой воды, даёт советы местная гадалка исключительно по частным, конфиденциальным вопросам. Но разве этот пирс – не деталь былого величия морской державы, в руках у которой было полмира?
Завершить мелочный разговор, может быть, уместно на кладбище домашних животных. Кладбище это стало местом скорби и печали хозяев животных. На склоне горы нередко можно увидеть людей, одетых в траурно-чёрные одежды. Один из них – бухгалтер Джон Милнер. Он уже не первый год скорбит по безвременной кончине 22 5-килограммовой свиньи по имени Тина. Я знал её со времён, когда она была маленьким поросёнком, рассказывает, рыдая, бухгалтер. Первый раз, как оказалось, он спас её от смерти в 1987 году. С тех пор Тина жила в специальном коллекторе для животных. Каждую субботу Джон приходил к свинье и проводил с ней много времени… Возможно, это были лучшие часы его жизни. Во всяком случае, теперь бухгалтер рассчитывает быть похороненным здесь, рядом со своим другом, Тиной. Соответствующие распоряжения он уже дал хозяевам этого кладбища. Так можно ли считать мелочью вопросы жизни и смерти хозяев, решивших воссоединиться со своими любимцами в этом гробовом царстве, а стало быть, и загробном? Вопрос, между прочим, и для скептиков.