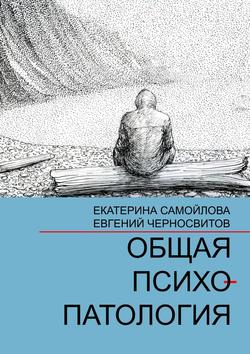Читать книгу Общая психопатология. Том 1 - Евгений Васильевич Черносвитов - Страница 10
Часть 1. Теоретико-культурные основания «Общей психопатологии» как отдельного предмета познания духовности
Глава 1. Персоналии и гипотезы
В) Альбрехт Дюрер: учение о пропорциях; меланхолия; аутоидентификация по Конфуцию
Оглавление«Нет людей больших. Нет людей маленьких.
Нет людей полных. Нет людей худых. Есть люди
пропорциональные и непропорциональные.
В этом все дело!»
(Альбрехт Дюрер. «Четыре книги о пропорциях»)
«Есть две вершины, на которых ясно и светло,
вершина животных и вершина богов.
Между ними лежит сумеречная долина людей.
И если кто-то взглянет хоть раз наверх
его охватывает древняя неутолимая тоска,
его, который знает, что не знает, – по тем, которые не знают,
что не знают, и по тем, которые знают, что знают».
(Пауль Клее)
Как люди большой науки представляют себе своего демона?
В том, что такой демон существует, настоящий ученый, то есть человек, склонный хоть к самоотчету, сомневаться не может. Существует дух науки. Наука жива, пока существует сила, которая ученого отрешает, возвышает, вдохновляет – но лишь до тех пор, пока он ей служит. Он связан с ней таинственным договором, как о том рассказывают «Фауст» или «Русские ночи» Одоевского. Но в смысл этого договора ученый не склонен углубляться.
Конечно, он не столь простодушен, чтобы не замечать двусмысленности или, говоря по-ученому, «амбивалентности» этой силы. Однако в содействие дьявола своим триумфам он, конечно, не верит. В гетевском Мефистофеле он видит красочное преувеличение темнот науки. Так отчего же змей, прельщающий знанием, издревле именовался «лукавым»? Ведь даже в сказании о Прометее, самом понятном ученому мифе, рассказывается о «похищении света» – о рискованной краже.
«Демон» Врубеля – это демон художника, в котором ученые могут признать, а могут и не признать выражение своего духа. Но если бы ученые обладали образным мышлением, достаточно мощным для самопознания, – нашли бы они фигуру самосознания, отличную от его Демона? Или остались бы при роденовском «Мыслителе»? Вопрос, пожалуй, досужий – тогда бы они перестали быть учеными. Для целей самопознания они не изобрели пока ничего более остроумного, чем еще одну отрасль точного знания – «науку о науке». Но если в демоне Врубеля мы видим существо, достигшее всемогущества и не знающее достойных целей его применения, а в подобном образе узнают себя все ведущие художники новейшего времени – от Блока до Джойса или Пикассо, – то разве не отображает он также умонастроение ученых, – хотя бы тех из них, кто пытался осмыслить свое дело в большом историческом времени?
Есть, пожалуй, лишь одно изображение духа познания, в каком ученый не может себя не узнать, – это «Меланхолия» Дюрера.
«Меланхолия» – это ребус из символов, говорящий едва ли не каждым штрихом. Но здесь мы ограничимся лишь пояснением к названию гравюры (подробный анализ «Меланхолии» в отдельной главе). Меланхоликам благоволила античность. Аристотель заметил: «…Все выдающиеся люди, отличившиеся в философии, в государственных делах, в поэзии или изобразительном искусстве, – меланхолики, некоторые даже до такой степени, что страдают от нездоровья, вызванного черной желчью». Но средневековье отнеслось к ним с опаской. Одна из известных немецких гравюр 15 века, изображавшая унылого немолодого человека, подпирающего голову одной рукой, а другой сжимающего кошелек, сопровождалась следующим стихотворным признанием:
Бог дал мне, меланхолику, природу,
Подобную земле – холодную, сухую,
Присущи мне землистый цвет волос,
Уродливость и скупость, жадность, злоба,
Фальшь, малодушье, хитрость, робость,
Презрение к вопросам чести
И женщинам. Повинны в этом всем
Сатурн и осень.
Возрождение не только реабилитировало меланхолический темперамент, но и ввело на него своеобразную моду, поставив под астрологический знак Сатурна всю свою «интеллигенцию»: художников, философов и теологов. Сатурн же издревле символизировал время, пожирающее свое потомство, и потому сближался с центральным символом гнозиса: Уроборосом, – змеем или драконом, гложущим свой хвост.
Гравюра Дюрера изображает грузное окрыленное существо, погруженное в глубокое раздумье с захлопнутой книгой на коленях и раскрытым циркулем в правой руке. Циркуль, равно как треугольник с линейкой, служат атрибутами Геометрии – одного из семи «свободных искусств» Средневековья и первого из божественных искусств Ренессанса]. Впрочем, дух геометрии опознается в гравюре вне всяких аллегорий – в самой ее образной форме.
Рядом с Меланхолией, на мельничном жернове, примостился путти – угрюмый ангелочек с записной книжкой, занятый какими-то заметками. Этого озабоченного мальчугана иногда истолковывают как олицетворение практического знания, вечно сохраняющего младенческую невинность. Но возможно также, что он представляет ученого секретаря, фиксирующего меланхолические мысли. У ног Меланхолии свернулась дремлющая собака. Как и кошель у ноги фигуры, обозначающий расчетливость, она – обязательный символ Сатурна. Еще одно живое существо – огромная летучая мышь, осеняющая и именующая всю картину – скорее с собачьей, чем с мышиной, мордой и змеевидным тельцем маленького дракона. Возможно, это летучие рудименты Уробороса. «Летучая мышь связана с Меланхолией потому, – разъясняет знаток Дюрера Нессельштраус, – что ее стихия – вечерний сумрак и ей сопутствует одиночество и уныние, собака же потому, что из всех животных она одарена наиболее высоким интеллектом и вместе с тем более других подвержена заболеванию бешенством, в чем усматривалось родство со склонностью меланхоликов к психическим заболеваниям».
Все остальное безжизненно.
Поскольку по символической насыщенности гравюра не имеет себе равных, распутать ее трудно. Слишком много в ней откровенно загадочного. Летучая мышь, например, служит фокусом эллипсовидной радуги, в другом фокусе которой размещается комета – знамение недобрых перемен. Слепящее тело кометы служит стоком перспективных линий, то есть геометрическим местом глаза (глаза, который все это видит), но не источником света: сцена озаряется сверху и справа неким иным светилом. Дюрер, первым на севере Европы освоивший теорию перспективы, придавал перспективным конструкциям чрезвычайное – метафизическое – значение. Но неизвестно, что именно зашифровал мастер таким композиционным приемом. Неясно также, что символизирует возвышающаяся в центре лестница, прислоненная к зданию – то ли инструмент богопознания из инвентаря Иакова, то ли сублимат Вавилонской башни, то ли прообраз нашей системы наук.
Выделим поэтому несомненное – смысловой центр картины: вещи, загромождающие основную часть поля изображения. Фигуру окрыленного атлета плотно окружают научные (философские, как тогда выражались) и ремесленные инструменты: часы, весы, клещи, жернова, блоки, рубанок, напильник и им подобные орудия. Это оснащение наших лабораторий и мастерских, вынесенное Дюрером «на природу». Ученый впервые изображается вне готического кабинета, – возможно, в здании второго плана представлены его наружные, ощеренные инструментами, стены. Окна этому зданию заменяют часы и магический квадрат. Перед нами оснащение инструментального, орудийного разума.
Демонстрация инструментов (ремесленных, научных, магических) – основное, что отличает гравюру Дюрера от других его работ, а также от изображений Меланхолии другими мастерами. Научно-технический инструментарий внедряется в мир художника – зачем?
Эти инструменты – загадка, и для нас не менее, чем для Дюрера. Правда, в отличие от Дюрера, мы знаем, что каждый из них – это проекция в материю части человеческого тела. Здесь только о «Ромбе Венепры».
…Золотое сечение.
«Негеометр да не войдет»
(Надпись на Академии Платона)
Ромб Венеры
«Ты на плече, рукою обнаженной.
От зноя темной и худой,
Несешь кувшин из глины обожженной,
Наполненный тяжелою водой.
С нагих холмов, где стелются сухие
Седые злаки и полынь,
Глядишь в простор туманной Куманики.
В морскую вечеряющую синь.
Все та же ты, как в сказочные годы!
Все те же губы, тот же взгляд,
Исполненный и рабства и свободы,
Умерший на земле уже стократ.
Все тот же зной и дикий запах лука
В телесном запахе твоем,
И та же мучит сладостная мука, —
Бесплодное томление о нем.
Через века найду в пустой могиле
Твой крест серебряный, и вновь,
Вновь оживет мечта о древней были.
Моя неутоленная любовь,
И будет вновь в морской вечерней сини.
В ее задумчивой дали,
Все тот же зов, печаль времен, пустыни
И красота полуденной земли».
(Иван Бунин. «Встреча»)
Пусть эти знания, полученные в средней школе, будут постоянно в сознании, когда мы будем рассматривать ромб Венеры…
Ромб
Ромбом называется параллелограмм, у которого все стороны равны. Так как ромб является параллелограммом, то он обладает всеми свойствами параллелограмма.
Особое свойство ромба:
Диагонали ромба взаимно перпендикулярны и делят его углы пополам.
Рассмотрим ромб ABCD. По определению ромба AB=AD, поэтому треугольник BAD равнобедренный.
Так как ромб-параллелограмм, то его диагонали точкой О пересечения делятся пополам. Следовательно, АО -медиана равнобедренного треугольника BAD, а значит, высота и биссектриса этого треугольника. Поэтому AC; BD и; BAC=;DAC.
Квадрат
Квадратом называется прямоугольник, у которого все стороны равны. Квадрат является параллелограммом, у которого все стороны равны, т.е. ромбом.
Основные свойства квадрата:
1. Все углы квадрата прямые.
2. Диагонали квадрата равны, взаимно перпендикулярны, точкой пересечения делятся пополам и делят углы квадрата пополам.
Ромб Венеры – одно из математических открытий Дюрера в пропорциях человеческого женского тела. Сразу отметим, что мужчина имеет все основания для ромба Венеры, но такового не имеет. Ибо, фигура ромба выступает лишь уж женщин. Так только у женщин в данной области откладывается жир. Даже у худых. Это отложение жира, скорее всего, обусловлено действием женских половых гормонов, и их месячным разнообразием. Имеется в виду гормон желтого тела, который возникает при овуляции и так избирательно влияет на локальный жировой объем.
Кажется, чего проще определить фигуру ромба – острый или тупой верхний угол (ромб образуется, по Дюреру, лишь у «нормальных», «здоровых» женщин, если соединить второй поясничный позвонок – верхушка ромба, с наивысшими точками тазовых костей и точкой крестцово-копчикового сочленения) по особенностям костей, его формирующих. Но, на самом деле, и это, вероятно, понимал Дюрер, кости играют не главную роль. Главную роль играют внутренние и наружные половые органы женщины. В зависимости, например, от того, развернуты к наружи, или «свернуты» во внутрь кости таза, вместилище внутренних половых органов (яичников, фаллопиевых труб, тела матки, соединяющей внутренние половые органы ткани, а также кровеносных сосудов и нервных сплетений), будет различно. Состояние наружных половых органов будет зависеть от высоты и подвижности крестцово-копчикового сочленения (размеры матки, ее положение в тазу, размеры влагалища, больших и малых половых губ. И т.д.). Верхний угол ромба прямо соотносится с выходом таза, а значит, с промежностью и включенной в диафрагму органов, сосудов, нервных сплетений. Женщины, у которых ромб Венеры выражен за счет жировой прослойки, по наблюдениям Дюрера, чрезвычайно сексуальны.
Ниже мы представляем разные типы строений области женского тела, которую Дюрер назвал ромбом Венеры. И сделаем существенное дополнение к анатомии физиологией и «мистикой» женского тела. Имеется в виду так называемый «запах женщины», вернее, «запах страсти». Еще раз вспомним глубокого и тонкого ценителя женской телесной красоты И. А. Бунина.
В прямой зависимости от анатомии внутренних и наружных половых органов, их функционирования и находится «запах страсти». И это еще не все! Данный запах воспринимается нашими хеморецеторами неосознанно. Современные косметологи называют его афрозодиак. Не столько мужчины «падки» на «запах страсти» своей возлюбленной, испытывая к ней по этой причине половое влечение… Сколько – сами женщины, находящиеся буквально в кабале от запаха, который исторгает их тело (область, помеченная стигмой ромба Венеры). Именно поэтому, женщины так чувствительны до экзальтации к запахам духов. И каждая – своих собственных, благо, что производимых в настоящее время в избытке и разнообразии, в основном, химическим путем парфюмерами…
…Если сравнить «запахи страсти» человека и животных, то соотношение по силе воздействия на противоположный пол «запаха страсти» человека к «запаху страсти» теплокровного животного приблизительно равен 1:10000! Вспомним великолепно описанное состояние верблюда после «гона» в романе «И дольше века длится день», выдающегося советского писателя Чингиза Торекуловича Айтматова. Почему? Да все потому, что человек существо социальное, «нервическое», и потоки негативных факторов, обрушивающихся на человека из социума, просто блокируют его хеморецепции…
…Сначала о «мистике» (настоящий смысл этого слова – загадка) ромба Венеры. Область ромба Венеры у каждой женщины – собственная «шагреневая кожа». Если ромб неудержимо стремится к квадрату, жизнь женщины с этой же скоростью стремится к своему концу… При попытке выделить из всех гормонов женщины гормон «смерти», то этим гормоном является гормон желтого тела. Безусловно, химическая цепочка, связывающая все гормоны человека в единую систему, для гормона женского тела имеет, так сказать, много мест. То есть, гормон желтого тела может быть и начальным звеном этой цепочки, и последним звеном. У «идеально» пропорциональной женщины, гормон желтого тела находится в золотом сечении…
В 1503 году Леонардо да Винчи написал портрет Моны Лизы – самой загадочной в мире женщины, вернее, женщины-загадки. А может быть, в портрете Моны Лизы он изобразил свое Alter Ego, которое, если верить современной науке, всегда противоположного пола? Безусловно, Леонардо да Винчи был всесторонне развитым человеком, гением. Врачи должны быть ему благодарны – он тщательно изучил анатомию и физиологию человека с рождения до глубокой старости и при всех распространенных в то время болезнях. Будучи итальянцем, он не ценил порядок, поэтому многое, что создал, совершенно неожиданно обнаруживается и по сей день. И кто знает, когда, наконец, человечество вновь обретет бесценные записные книжки да Винчи (а их было свыше девяти тысяч!) и получит возможность изучать его открытия и гениальные прозрения в отношении человеческой природы?
Другой гений эпохи Возрождения, Альбрехт Дюрер, родился на 19 лет позже и умер на 9 лет позже Леонардо да Винчи. Несмотря на то, что Дюрер был в Италии дважды, с Леонардо он не встречался. Он был знаком с Джованни Беллини и двумя его молодыми учениками – Джорджоне и Тицианом, но, не желая соперничать с ними, отклонил предложение властей Венеции остаться работать и уехал на родину.
Сравнивать творчество Леонардо да Винчи и Альбрехта Дюрера нет смысла. Но одно поражает – их отношение к человеку, вернее, к его телу. Дюрер, так же как и да Винчи, тщательно изучал анатомию и физиологию человека с рождения до смерти и при всех заболеваниях, известных в Германии в его время. У обоих художников множество почти идентичных эскизов и набросков. Оба художника изучали тело человека с точки зрения самой точной науки того времени – математики, пользуясь самыми верными методами геометрии.
Но в отличие от да Винчи Дюрер, как истинный немец, был педантичным и аккуратно хранил каждый листочек. В результате появились на свет «Четыре книги о пропорциях» – грандиозный труд о всех пропорциях человека с точки зрения математики.
Поражает воображение и еще одно сходство в творчестве двух титанов Ренессанса. Если да Винчи действительно изобразил в Джоконде свое Alter Ego, то Дюрер, отнюдь не будучи трансвеститом, писал себя в женском платье до тех пор, пока, наконец, не обрел свое Alter Ego в реальной женщине, которую нашел в Венеции. При сравнении автопортрета Дюрера, написанного в 1493 году (он одет в женское платье и с женской прической), с портретом молодой венецианки, написанным в 1505 году, сходство двух разнополых людей поражает! Проведенные компьютерные исследования этих произведений убедительно показывают, что все параметры изображенных частей тела Дюрера и венецианки равны. Пожалуй, оба гения невольно (а может быть, намеренно?) воплотили в своей жизни и творчестве платоновский (Конфуция) миф о серафимах – двуполых существах, из зависти разрубленных богами на две разнополые половинки и тем самым обреченных вечно искать свою вторую половинку и вечно ошибаться…
Итак, у Джоконды есть соперник, не менее, чем она, приковывающий к себе внимание, правда, в основном, особ женского пола: в венском музее около «Портрета молодого человека» (1521) Дюрера всегда многолюдно. Правда, если Джоконда очаровывает улыбкой, то молодой человек Дюрера – взглядом. Кстати, он – отнюдь не идеал мужской красоты, как не идеал женской красоты Мона Лиза.
Современному знатоку анатомии, физиологии и души человека хорошо известно, что красота человека, человеческого тела в его асимметричности. Остается удивляться, как этого не заметили ни Леонардо да Винчи, ни Альбрехт Дюрер? Симметричный живой человек безобразен, неловок и неуклюж. Оживи, например, Аполлон Бельведерский, – он вмиг превратился бы в урода (Стендаль).
…Женщина, собирающаяся стать матерью, должна знать, что Дюрер дал точный прогноз перспектив ее разрешения от бремени, обратив внимание на область внизу спины, названную им ромбом Венеры – конец грудных позвонков (верхняя точка), самые высокие точки подвздошных костей и конец копчика. Так вот, если верхний угол ромба острый или вместо ромба квадрат, то женщине даже с широким тазом грозит кесарево сечение. Если же верхний угол ромба хоть на один градус больше прямого угла, то женщина даже с узким тазом родит сама. Женщины, у которых ромб Венеры выражен за счет жировой прослойки, по наблюдениям Дюрера, чрезвычайно сексуальны.
В 1514 году, во время работы над гравюрой «Меланхолия», Дюрер следил за появившейся яркой кометой. «Меланхолия» – самая загадочная из трех «Мастерских гравюр» Дюрера и одна из любимых его работ. О ней написано очень много, каждый штрих подвергался тщательному анализу. При этом очень часто привлекались астрономия и астрология. И, конечно, в первую очередь, внимание обращалось на комету.
Очень многое в этой гравюре, в том числе и комета, связано с символикой планеты Сатурн, покровительствующей меланхоликам. Бог этой планеты старше остальных богов, ему ведомы сокровенные начала Вселенной, он стоит ближе всех к источнику жизни и воплощает высший интеллект, поэтому лишь меланхоликам доступна радость открытий. Выделялись три типа меланхолии; первый тип – люди с богатым воображением: художники, поэты, ремесленники, второй – люди, у которых рассудок преобладает над чувством: ученые, государственные деятели, третий – люди, у которых преобладает интуиция: богословы и философы. Художникам доступна только первая ступень. Поэтому Дюрер, считавший себя меланхоликом, выводит на гравюре надпись MELENCOLIA I. Крылатая женщина неподвижно сидит, подперев рукой голову, среди разбросанных в беспорядке инструментов и приборов. Рядом с женщиной свернулась в клубок большая собака, символизирующая меланхолический темперамент. Эта женщина – своеобразная муза Дюрера – печальна и мрачна, крылата и могуча, но не может проникнуть за видимые явления мира и познать тайны Вселенной. Эта невозможность сковывает ее силу и волю.
Дюрер создал эту гравюру для эрцгерцога Максимилиана I, панически боявшегося зловещего влияния Сатурна, поэтому на голове у женщины венок из лютиков и водяного кресса – средство против опасного влияния планеты. Рядом с лестницей, на стене изображены весы. В 1514 году, в год создания гравюры, Сатурн находился именно в созвездии Весов. Там же в 1513 году произошло соединение Сатурна, Венеры и Марса. Это явление хорошо наблюдалось на утреннем небе. До этого Венера и Марс находились в созвездии Девы. Со времен античности считалось, что такие схождения планет являются причиной появления комет. Комета, которую видел Дюрер и запечатлел на гравюре, двигалась именно к тому месту в Весах, где находился Сатурн, став, таким образом, еще одним символом меланхолии. Эта комета появилась в конце декабря 1513 года и наблюдалась до 21 февраля 1514 года. Она была видна на протяжении всей ночи.
До сих пор большинство психиатров отождествляют меланхолию и депрессию. Словно не замечая их психопатологические различия. Они, действительно, не качественные, с точки зрения синдромологии. Только феноменология делает эти различия наглядными и показывает их существенную разницу. Функциональная асимметрия ставит все точки над I, показывая феноменологию нарушения аутоидентификации трансвестита.
Система пропорций, разработанная Дюрером, получила всеобщее признание. За её основу Дюрер принял рост человека (h), подразделив его на элементы.
Дюрер предлагал и другой способ измерения пропорциональности человека: параметры головы человека (от подбородка до крайней точки затылка) должны укладываться в ширину и длину тела без остатка. А так же у пропорционального человека тело может быть разложено на геометрические фигуры, которые будут правильными.
Из диспропорции Дюрер выводил все болезни, скоропостижные смерти, дурной характер, дурные наклонности.
…А, вот последние данные О моне Лизе и Витрувианском человеке. Любую загадку, даже оставленную человечеству гением, время непременно разгадает!
МОНА
«Il tempo avanza a passo diverso con diverse persone. Ti dirò con chi il tempo va d′ambio, con chi il tempo va al trotto, con chi il tempo va al galoppo, e con chi sta fermo».
Я перевела эти слова Вильяма Шекспира о времени и о нас, кто время может изменять в силу своего характера, на итальянский язык, потому, что хочу писать об итальянке – Моне Лизе. В ее фамилии «Джоконда», мне всегда чудилось что-то зловещее, змеиное (кстати, не мне одной, а Наполеону тоже, когда Ritratto di Monna Lisa del Giocondo, висел у него в спальне дворца Тюильри). А Джоконда, скорее всего фамилия ее мужа, флорентинца, торговца шелком… Лиза была третьей женой Франческо дель Джокондо – так пишут. Две предыдущие жены умерли, едва достигнув бальзаковского возраста. Конечно же, я не рассчитываю поставить все точки над «и»! Вероятно, Мона Лиза будет сводить с ума своей загадочной улыбкой… вечно! Сразу хочу «приземлить» своих читателей, показать, что не буду захлебываться в похвале создателю Моны, как некогда великий итальянец, который и в глаза не видел портрета Моны, тем не менее, описал его и все малейшие детали Моны (корешки волосиков на ее лице и поры ее божественной кожи, испарину на лбу, влагу глаз и т.д.) – Вазари. Воспринимая Мону, как женщина, я почему-то всегда вспоминаю, что если во Флоренции «Мона» или «Монна» суть сокращенное мадонна, то в Венеции «мона» – женский половой орган… Не буду дальше развивать эту мысль. Вот сразу еще одна загадка: имел ли в виду Леонардо венецианскую мону, когда писал с «невероятной страстью» (как отмечают многие знатоки) портрет жены торговца шелком? Теперь небольшое отступление.
Муза для мужчины-творца, это намного больше, чем просто аллегория или миф. Вспомним Пигмалиона – царя и скульптора, который сотворил из слоновой кости свою Музу. Афродита сжалилась над ним и оживила холодную кость. Ожившая муза Пигмалиона родила ему троих детей. Жан Жак Руссо, понимал Пигмалиона и дал имя его музе-жене: Галатея. Я убеждена, что все споры о возлюбленных – у Данте была Беатриче, у Петрарки – Лаура, для Боккаччо грезы о музе олицетворялись в образе Фьяметты, или… о Дульсинеи Тобосской «хитроумного идальго» Дон Кихота Ламанчского, – бесперспективны. Как безнадежно гадать, кому свои сонеты посвящал Вильям Шекспир. Гораздо хуже, когда музы из такой же плоти и крови, как сам творец. Тогда… прямая линия от «Я помню чудное мгновенье…», до «наша вавилонская блудница Анна Петровна», или еще хуже – «корова»!
Теперь о «ключе» к загадке, интриге и к всей прелести Моны Лизы – к улыбке! Она действительно гипнотизирует. И не только толпу, которая созерцает, скоро половину тысячи лет, эту улыбку, с открытыми ртами! И великие умы терялись перед ее «очарованием», словно забыв (как Вазари!), что такая манера рисовать улыбку еще во времена жизни да Винчи носила название «леонардовская», и его ученики также рисовали улыбку женщины по леонардовски! Да, вот почему-то никакие другие портреты женщин с подобной улыбкой никого не очаровывали (улыбкой)! Вот слова нашего великого мыслителя и знатока живописи, А. Ф. Лосева: …«Мона Лиза» с её «бесовской улыбочкой». «Ведь стоит только всмотреться в глаза Джоконды, как можно без труда заметить, что она, собственно говоря, совсем не улыбается. Это не улыбка, но хищная физиономия с холодными глазами и отчетливым знанием беспомощности той жертвы, которой Джоконда хочет овладеть и в которой кроме слабости она рассчитывает ещё на бессилие перед овладевшим ею скверным чувством…» Забегая вперед, скажем, что Лосев стоял у черты разгадки «улыбки» Моны Лизы. Как и он, Фрейд также подошел к «черте» тайны, но не только не переступил эту черту, но даже не назвал ее психопатологического смысла, хотя и описал его точно (Лосеву простительно, он только философ, но Фрейд – прежде всего психопатолог): «Кто представляет картины Леонардо, у того всплывает воспоминание о странной, пленительной и загадочной улыбке, затаившейся на губах его женских образов. Улыбка, застывшая на вытянутых (здесь и дальше выделено мной – Е.С.), трепетных губах, стала характерной для него и чаще всего называется «леонардовской». В своеобразно прекрасном облике флорентийки Моны Лизы дель Джоконды она сильнее всего захватывает и повергает в замешательство зрителя. Эта улыбка требовала одного толкования, а нашла самые разнообразные, из которых ни одно не удовлетворяет. (…) Догадка, что в улыбке Моны Лизы соединились два различных элемента, рождалась у многих критиков. Поэтому в выражении лица прекрасной флорентийки они усматривали самое совершенное изображение антагонизма, управляющего любовной жизнью женщины, сдержанности и обольщения, жертвенной нежности и безоглядно-требовательной чувственности, поглощающей мужчину как нечто постороннее… Леонардо в лице Моны Лизы удалось воспроизвести двоякий смысл её улыбки, обещание безграничной нежности и зловещей угрозы». Фрейд, когда писал эти строки, тоже находился под гипнозом! Он не только забыл, что он, прежде всего психопатолог, врач, но и то, что накануне он, разгадывая Мону Лизу, предположил, что Леонардо в ее портрете изобразил свою мать! Но, какая нормальная мать может улыбаться своему дитя со «зловещей угрозой»? Даже фрейдовское понятие «Эдипово комплекса» (которое Фрейд взял у Софокла), как и в первоисточнике – в эмоциях Иокасты Софокла, нет ничего «зловещего»! Вот еще аналогичное лосевскому и фрейдовскому об улыбке Моны Лизы мнение (а их не перечесть!): «Особенно завораживает зрителя демоническая (выделено мной: Е.С.) обворожительность этой улыбки. Сотни поэтов и писателей писали об этой женщине, которая кажется то обольстительно улыбающейся, то застывшей, холодно и бездушно смотрящей в пространство, и никто не разгадал ее улыбку, никто не истолковал ее мысли. Все, даже пейзаж, таинственны, подобно сновидению, трепетны, как предгрозовое марево чувственности (Рихард Мутер. «Всеобщая история живописи»)…
Итак, думаю, что все, кто смотрел хотя бы раз на портрет Моны Лизы, полуосознавали (что должен был бы сказать психопатолог Фрейд!), что ее улыбка не соответствует в целом выражению лица Моны Лизы! Это называется – парамимия. Объясняется она (как заблуждались все, в том числе Лосев, Фрейд, Мутер) не амбивалентностью чувств или характера Моны Лизы, а… другим. И, чтобы это подтвердить, обратим (вслед за многими ценителями гениального портрета Моны Лизы) еще к двум феноменам портрета: пейзажу и сфумато – мягко тающей дымке, окутывающей лицо Джоконды и в волнах легкого lauro, (Джо́рджо Ваза́ри). Но сначала еще несколько неожиданных для логики нашего расследования, замечаний. 1) Мы утверждаем, что чистая улыбка женщины это всегда преддверие поцелуя! И вот:
«Поцелуй названья не имеет,
Поцелуй не надпись на гробах.
Красной розой поцелуи веют,
Лепестками тая на губах.»
И еще:
«Не криви улыбку, руки теребя, —
Я люблю другую, только не тебя»
Сергей Есенин.
Как раз, то, что надо! «Мужчины! При виде улыбки Джоконды, у вас возникает желание ее поцеловать?» – да простят мне читатели, этот мой тест!
А, вот теперь о пейзаже (кстати, Леонардо, то рисовал его, то убирал с портрета…). Опять невольно ценитель вплотную подходит к некоей черте. Вот, например, Борис Робертович Виппер («Итальянский ренессанс»): «Второе средство – это отношение между фигурой и фоном. Фантастический, скалистый, словно увиденный сквозь морскую воду пейзаж на портрете Моны Лизы обладает какой-то другой реальностью, чем сама её фигура. У Моны Лизы – реальность жизни, у пейзажа – реальность сна. Благодаря этому контрасту Мона Лиза кажется такой невероятно близкой и ощутимой, а пейзаж мы воспринимаем как излучение её собственной мечты». А вот еще (Виктор Николаевич Гращенков. Портрет в итальянской живописи Раннего Возрождения): «В этой загадочной картине он создал нечто большее, чем портретное изображение никому не ведомой флорентийки Моны Лизы, третьей (? – Е.С.) жены Франческо дель Джокондо. Внешний облик и душевный строй конкретной личности переданы им с небывалой синтетичностью. Этому имперсональному психологизму отвечает космическая отвлечённость пейзажа, почти полностью лишённого каких-либо признаков человеческого присутствия. В дымчатой светотени не только смягчаются все очертания фигуры и пейзажа и все цветовые тона. В почти неуловимых глазом тончайших переходах от света к тени, в вибрации леонардовского „сфумато“ до предела смягчается, тает и готова исчезнуть всякая определённость индивидуальности и её психологического состояния»…
…Для того, чтобы мое повествование было логично, и, вместе с тем эмпирично, я приведу некоторые данные, которые ранее, в целом, ни кем и никогда не приводились. Причина, отнюдь, не в невежестве моих предшественников, пытающихся разгадать феномен Моны Лизы. Я вижу две основных причины, что все они, от Вазари – Фрейда до Лосева (наиболее глубоких воззрений у других авторов я просто не встречала!), 1) находились под гипнозом шедевра Леонардо да Винчи; 2) чисто по человеческим причинам не могли преступить некую черту…
…Итак, эмпирия! Что нужно было бы сделать, чтобы разгадать леонардовскую улыбку, которая в совершенстве представлена Моной Лизой? Да ведь просто: найти аналог! А он есть! Больше того, о нем, этом аналоге, есть и записи самого да Винчи, но не в связи с Моной Лизой, а в связи с мимикой лица (нечто подобное на таком же высочайшем уровне сделал еще один гений – Альбрехт Дюрер, добровольно отдав ветку первенства итальянцам, написавший шедевр «Меланхолия»). Выделю, чтобы сразу бросалось в глаза: сардоническая улыбка! Предоставлю читателю самому собрать информацию и о сардонической улыбке, и о сардоническом хохоте. Выделю здесь лишь главное: сардоническая улыбка возникает в момент перехода человека из реального мира в мир иной (при некоторых обстоятельствах: если ты находишься на Крите, в брюхе медного быкоподобного Фалеса, разогреваемого на огромном костре, когда ты поражен возбудителем столбняка и т.д.). Точнее говоря, когда клиническая смерть переходит в биологическую, необратимую. Приведу в собственном изложении рассказ моего друга парижанина, известного патологоанатома, Анатоля Бирюля о так называемой L′Inconnuedela Seine. В интернете можно много найти о ней. Кончать жизнь самоубийством в Сене было модно давно. Причина, чаще, несчастная любовь. Вспомним, как закончила свою жизнь героиня «Шагреневой кожи» Бальзака. Так вот, в конце позапрошлого века, ближе к осени, когда уже начало темнеть, с нового моста (Pont-Neuf), первый камень, которого заложил ещё Генрих III в 1578 году, самого романтического моста, на глазах прохожих в Сену неожиданно бросилась молодая девушка. Естественно, тут же несколько мужчин бросились ее спасать. Нашли спустя полчаса. Конечно, она была мертва, и спасать было поздно. Ее положили под фонарь, в ожидании полицейских. Она была весьма недурна собой. И вдруг, на глазах вмиг пораженных спасателей, лицо утопленницы стало оживать! Она открыла глаза! Но – взгляда больших синих глаз… не было! Глаза оставались мертвыми! Затем легкая судорога прошла по лицу до верхней губы. И тут произошло самое невероятное: утопленница заулыбалась! Не просто заулыбалась, ее улыбка была копией улыбки Моны Лизы! Что происходило в сердцах мужчин, наблюдавших ее – представить невозможно!.. Полиция доставила труп юной парижанки – «Моны Лизы» в морг. Патологоанатом, также пораженный ее красотой и сходством с Моной Лизой, сделал тут же гипсовую маску… На протяжении нескольких лет в Париже распространились копии отпечатка, которые стали модным атрибутом в богемном обществе. Писатели, поэты и художники черпали вдохновение из образа девушки и посвящали ей свои работы. Альбер Камю сравнивает её улыбку с улыбкой Моны Лизы, поэт Аль Альварес писал, что целое поколение немецких модниц сверяло свою внешность с ней как с идеалом.
Владимир Набоков посвятил неизвестной утопленнице стихотворение L’Inconnue de la Seine (1934):
В без конца замирающих струнах
Слышу голос твоей красоты.
В бледных толпах утопленниц юных
Всех бледней и пленительней ты.
Ты со мною хоть в звуках помешкай,
Жребий твой был на счастие скуп,
Так ответь же посмертной усмешкой