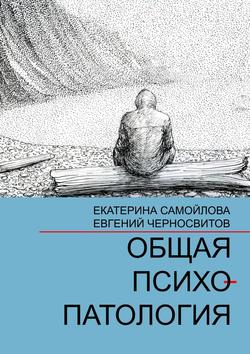Читать книгу Общая психопатология. Том 1 - Евгений Васильевич Черносвитов - Страница 7
Введение
Б) Методология «Общей психопатологии»
ОглавлениеФеноменология Эдмунда Гуссерля была удобна для главной тройки философов экзистенциалистов – Жан Поль Сартра, Мартина Хайдеггера и Карла Ясперса. Экзистенциализм ХХ-го века заявил себя, как науку. Поэтому нужен был строгий научный метод (отсюда, методология и методика у экзистенциалистов одно и то же). Принципиальное же учение Гуссерля было «Феноменология (в черновиках – философия) как строгая наука. Больше того, философия у Гусссерля изначально имела своим идеалом формальную логику. Как потомок немецкой классической философии, Гуссерль строил философскую систему. Но, в центре этой системы он хотел оставить не формально-абстрактное «Я» (Фихте), а человека с его переживаниями. Больше того, переживания должны быть содержательны, и иметь смысл. Он, очищая науку, попытался вынести за скобки сознания (а предметом философии для Гуссерля, как и его последователей-экзистенциалистов было сознание) всякое переживание, лишенное личностного смысла. Эта процедура называлась редукцией или эпохе. Это ему не удалось. Системы не получилось. Тогда он впустил в сознание жизненный мир в «плоское философствование» (В. И. Ленин). Последние труды Гуссерля экзистенциалистов не интересовали. Но они остались очарованы новым научным методом философствования – феноменологией, преодолевающим диалектическую и формальную логику. Правда, в конце концов и Сартр и Хайдеггер и Ясперс стали все-таки диалектиками.
От методологии Гуссерля осталось одно очарование. И это очарование было в слове феноменология.
Представим ниже беглый обзор феноменологии, отнюдь не являющейся открытием Гуссерля, как она была представлена в истории философии. Выберем имена философов, чьи взгляды были чрезвычайно близки разработчику феноменологии конца Х1Х-го начала ХХ-го веков. Вначале об основных понятиях – феномене и ноумене.
Phainomenon – от греческого являющийся или кажущийся. Noumenon – истинное, умопостигаемое. Феномен и ноумен – две стороны одной медали. Но, удивительно, разные философы занимались феноменологией, и только мыслящие религиозные деятели (например, Блаженный Августин в «Исповеди», представляющей собой образец глубинной психологии и Фома Аквинский в «Пяти доказательствах бытия Бога» и в учениях о субстанции и акциденции), по существу строили ноуменологию. Cogito Декарта также скорее ноуменология сознания. Ибо, по Декарту, если есть в сознании идея чего либо, значит это существует: «Cogito ergo sum. Cogito Teo ergo Teo sum». Так, кстати, он доказал существование и себя, и Бога.
Феномен и ноумен лежат в основе гносеологии Платона: gnosis est mnemosis. Ноумен, по Платону, находится в «пещере» памяти. Человек видит только то, что или бросает тень на выходе из «пещеры», или то, что пропускает выход пещеры. Это и есть феномены вещей, суть которых, ноумены, остаются вне познания. Все агностики и скептики были феноменологами. Для Давида Юма даже собственное «Я» есть феномен, то есть, иллюзия, bundle or collection переживаний. Феноменологом-агностиком был Беркли. Но ни Платон, ни Гегель, будучи феноменологами, не были, как известно, ни скептиками, ни агностиками. Диалектическое движение феномена вокруг собственного ноумена, вычерпывает из последнего все содержание. Так, ничто (незнание) превращается в бытие (знание). Жак Лакан более склонен был к математике, чем к диалектике. Поэтому «пропускал» феномен по поверхности ленты Мебиуса. Его представление о сознании и бессознательном (он любил повторять автору этой книги, что является единственным ортодоксальным фрейдистом) ничто, без связывающей их ленты Мебиуса. То, что в сознании предстает в своей кажущейся неполноценности феномена в это мгновение, в следующее мгновение обретает, благодаря механизму ленты Мебиуса всю полноту содержания и смысла ноумена. Правда, к данной терминологии – феномен, ноумен, феноменология, он прибегает лишь в своих лекциях по психоанализу, прочитанных в Сорбонне в 1972 году на философском факультете. Ноумен Лакан помещал в бессознательное, а феномен был для него первым непосредственно данным содержанием ноумена в сознании.
Гностическая феноменология ничего общего не имеет ни феноменологией Платона и классиков немецкой философии, ни с феноменологией экзистенциалистов. Гностики переняли феноменологию Конфуция, изложенную в «Книге перемен» («И цзин»). В этой системе феноменология разворачивается между двумя ноуменами – Инь и Ян. Женским и мужским началами. Добром и Злом. Манихейство гностиков именно от этой изначальной двойственности бытия и сознания. Психиатрические феномены амбивалентность и амбитендентность, а также психофизиологические феномены бидоминатности и бимодальности А. А. Ухтомского также, скорее всего, производные Инь и Ян (об этом ниже). В философии Конфуция мир расколот на женское и мужское. В нем все остальное: пространственно-временные параметры, и даже бытие и ничто – все одно: или Инь, или Ян. Поэтому, «самый холодный день зимы это первый день весны». Вселенная равна атому. Линия горизонта проходит через субъекта, его наблюдающего. Самый высокий, равен самому низкому. Самый добрый – самому злому. И т.д., и т. п. Наиболее доступно феноменологию Конфуция – гностиков можно представить, на наш взгляд, через гениальный опус трагически одаренной личности – Отто Вейнингера (подробнее см. ниже) «Пол и характер». А также через поэтические образы Марины Цветаевой (подробнее ниже в соответствующих разделах книги).
Функциональная асимметрия – понятие, разработанное нами совместно с нейропсихологами и нейропсихопатологами Т. А. Доброхотовой и Н. Н. Брагиной. Правильная дефиниция «мужского» (левого, Ян) и «женского» (правого, Ин), в применении к духовному (психике, сознанию, душе) не количественная и не качественная. Она – функциональна. Чем функционально асимметричен человек, тем он выше в своей духовности, тем больше в нем витальной силы. Функциональная симметрия означает смерть. Все посмертные маски – функционально симметричны. Сама жизнь и смерть человека охватываются формулой функциональной асимметрии. Так, в строго научном смысле можно говорить о формуле смерти. 30 лет нами совместно с лабораторией Института нейро-хирургии им. Н. Н. Бурденко, возглавляемой Т. А. Доброхотовой и Н. Н. Брагиной, разрабатывается эта тема. Выпущено в свет ряд монографий и названными учеными и нами. Последняя наша монография так и называется «Формула смерти» (Е. В. Черносвитов. «Формула смерти». М. Изд-во «РИЦ МДК», 2004 См. также рецензии по поводу «Формулы смерти»: А. Д. Королев. «Тайна жизни». Вестник РФО. №3. 2004, стр.132 и Ю. М. Хрусталев. «Формула или философия смерти?» Философские науки. №5). Для нас понятие духовности как общая психопатология может быть раскрыто, если методологией будет являться феноменология функциональной асимметрии. Именно функциональная асимметрия позволяет феноменологии стать воистину строгой наукой, не теряя ни содержания, ни смысла познаваемых феноменов духовности. В течение тридцати лет, шаг за шагом мы исследовали общую психопатологию методом функциональной асимметрии и публиковали результаты в журналах «Вопросы философии», «Философские науки», «Вопросы психологии», «Журнал невропатологии и психиатрии им. С. С. Корсакова», в материалах конференций, симпозиумов и съездов философов, психологов, психиатров, терапевтов и социологов. В сборниках Института социологических исследований АН СССР совместно с Философским обществом СССР, Всесоюзным Обществом невропатологов и психиатров. В сборниках международных Конгрессов. В этой книге подводится итог нашим исследованиям общей психопатологии.