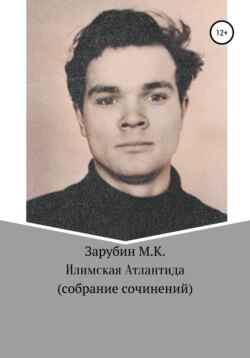Читать книгу Илимская Атлантида. Собрание сочинений - Михаил Константинович Зарубин - Страница 5
Том первый
Избранные повести
Долгая дорога к маме
Повесть
Трудная встреча
ОглавлениеВремя – та таинственная, труднопостигаемая категория бытия, которая, кажется, не может быть точно выражена никакими законами. Время может тянуться и мчаться, ускоряться и замедляться, даже становиться неподвижным. Образ неподвижного времени, точнее, бытия в Боге, известен нам по русским иконам. В границах личного жизненного опыта время поддается приблизительному осмыслению только как часть вневременного бытия. Связанное с движением, с развитием и отдельной человеческой жизни, и всей Вселенной, время имеет божественные закономерности, постигаемые не столько рациональным умом, сколько путем развития души, стремящейся к укоренению не в преходящем мире, а в Вечности.
Долго и трудно такое понимание времени, а точнее, смысла жизни, обреталось Михаилом. Четвертый десяток лет он живет и работает в Санкт-Петербурге. Позади учеба в техникуме, работа, опять учеба, но уже по вечерам в институте, и работа, работа. Встреча с любимой женщиной, создание семьи, рождение дочерей.
Сначала казалось, что случай выбрал его из десятков таких же, как и он, молодых, упорных, и поставил во главе строительного управления. На важнейшей стройке страны. Также случай помог преодолеть многочисленные преграды, связанные с получением жилья в Северной столице во времена Советской империи. И то, что другим людям приходилось решать эту основную жизненную проблему десятки лет, а ему удалось быстро и без особого напряжения, – верилось, произошло по воле случая.
Жить Михаилу в Питере, особенно в первые годы, было трудно. Он скучал по щедрому сибирскому солнцу, по своим землякам-сибирякам, общительным и понятным, по алмазным сибирским рекам и благоуханным цветам. Низкие тяжелые облака, холодные ветры, непрерывные дожди – все это раздражало, заставляло с грустью вспоминать край своего детства и юности. Да и люди здесь казались более замкнутыми, обособленными, ревниво оберегающими свой задушевный мир.
Однако интересная работа, сложнейшие объекты, которые не имели аналогов на всем белом свете, блистательной красоты город смягчали ощущения и впечатления, и все постепенно становилось родным. Молодость любопытна, Михаил выкраивал время на прогулки по городу, на посещение музеев и театров.
Он разделил Питер на два города. Исторический и обыкновенный, типовой, каких сотни в стране. Типовые кварталы для простоты называют «спальными районами». Вначале и Михаил с семьей жил в таком районе, но через несколько лет переехал в центр, в настоящий Петербург. Жить в исторической части города тоже нелегко, как будто живешь в музее, все на обозрении. В спальных районах тоже не лучше; большая скученность, неудобный транспорт. Чего стоит одна дорога с работы до дома! Однако он не задумывался об всем этом – не было времени. Главным смыслом его жизни была работа.
Работа, упорство и настойчивость – самое главное в профессии строителя. Михаилу стали поручать все более значимые объекты, связанные с обороной страны. Он гордился подобным доверием и оправдывал его. Дома его не видели сутками. Но это сверхнапряжение делало его сильным, выносливым и уверенным в себе человеком. Он поднимался по служебной лестнице, получая колоссальный опыт и вкладывая его в очередную ответственную должность. Пришло время, когда Михаилу доверили руководить крупнейшим коллективом, выполнявшим сложнейшие строительные задачи. Время на семью оставалось совсем мало. Спасибо любимому человеку, другу, жене Нине, которая понимала его и заботились о нем, взяла всю домашнюю нагрузку на себя.
Он не заметил, как две дочки окончили школу и стали невестами, вышли замуж и подарили ему четырех внуков. Вдруг неожиданно для всех развалилась великая страна, никому стали не нужны цеха и заводы, где выпускалась военная продукция, перестали требоваться стране и сами строители. Появилось время. Михаил понял, что бо́льшая часть жизни прожита, ему уже за пятьдесят. Есть возможность уйти на отдых, жить на даче, писать воспоминания и, наконец-то, добраться до могилки матери, что оказалась, как в старой сказке, посередине моря-океана. Это не фигура речи, это реальность XX века, когда многие поселки и деревни оказывались под водой в угоду невероятным коммунистическим прожектам. Слава Богу, материнскую могилу спасли, перенесли на высокое место.
Однажды отважился, полетел на родину, но не добрался, помешала погода. Вернулся и снова окунулся в дела. Да и как уйдешь от них. Общество стало новым, к власти пришли другие правители. Прежние-то мало заботились о людях, всё больше на словах, а новые и про слова забыли, занялись только собой. Пенсии стали такими экономными, что жить на них невозможно и умереть нельзя – денег не хватит на простенький гроб и могилу. Какой уж тут отдых, тяни лямку, пока не упадешь. Но люди верят, надеются, ждут лучшего, как и во все времена.
Михаил поседел, постарел, набрался жизненного опыта, научился думать и анализировать. Вместе с этим приобрел множество возрастных болезней, от которых, увы, никуда не деться. Человеческий организм, как и любой механизм, имеет свойство изнашиваться: какие-то детали выходят из строя, что-то требует замены. Ничего нового в жизни не происходит, всё как у всех; детство, отрочество, юность, зрелость и старость. Только у каждого своя задача, и поэтому свой срок существования на земле.
Несмотря на завещание матери, религия в жизни Михаила занимала едва ли не последнее место. Сказать точнее, вообще никакого места не занимала. Правда, он не был убежденным атеистом, иногда в церковь заглядывал, но к церковным обрядам был равнодушен.
В Санкт-Петербурге многие церкви пережили богоборческую власть, многие сохранились с царских времен. Михаил любил ходить в собор Петра и Павла, который был почти ровесником города, здесь хоронили русских царей, начиная с Петра Великого. Часто бывал в Казанском соборе, когда-то главном общегородском храме, поражавшем своим величием и монументальностью, вековой историей, накрепко связанной с историей России. Но ни роскошь внутреннего убранства, ни красота богослужения почему-то не трогали душу человека, десятилетия верно служившего Отечеству.
Вера в коммунистические идеалы мало затронула Михаила. От веры в Бога он оказался далек по другим причинам. В родной деревне не было церкви, а это чрезвычайно много значит в воспитании ребенка. Церковь могла благотворно воздействовать на детский ум, несмотря на оголтелую атеистическую пропаганду, которую вели в школе, в клубе, в газетах, журналах и книгах. Михаил оправдывал себя тем, что был равнодушен к вере, потому что все вокруг были атеистами. Ему внушили, что церковный пафос – лживый, искусственный, попы все врут, Бога нет, космонавты летали, никого не видели… Еще в юности Михаил увлекся театром, и именно театральный пафос послужил для него эквивалентом искренности и правды. В театре проходила часть его жизни, удовлетворялись нравственные потребности души. Это увлечение наложило отпечаток и на чувства Михаила, и на мысли, и на способ их выражения.
У него не было желания покреститься, стать со временем воцерковленным человеком, православным, посещать богослужения. Он даже никогда об этом не думал. Но однажды, неизвестно почему, Михаилу захотелось поехать на Валаам. Много лет назад ему неоднократно предлагали профсоюзную путевку на святой остров в Ладожском озере, но он предпочитал в выходные дни отдыхать дома. В России об этом архипелаге в центральной части Ладоги знают многие. Утверждают, что нигде нет такой природы, как на Валааме, а хвойного леса, что растет на чудо-островах, не встретишь во всей Европе.
И вдруг возникшее желание поехать во святое место было настолько для Михаила необычным, что жена с удивлением сказала:
– Миша, ты же столько раз отказывался от этой поездки!
– А сейчас захотел. Не знаю, почему. Давай съездим.
Нина обрадовалась. Она тоже не была верующей, не соблюдала постов и обрядов православной церкви, однако давно хотела побывать на Валааме, потому что много читала о нем, и своими глазами хотела посмотреть на тамошние чудеса и красоты.
Купили билеты на круизный теплоход и отправились в плавание. Ночью теплоход привычно преодолевал бурные воды Ладоги, которая встречала путешественников неприветливо, раскачивала корабль так, что скрипели перегородки и обшивка корпуса, в каюте перемещались вещи. Ночью Михаилу не спалось, на землю Северного Афона он ступил уставший, разбитый, с больной головой. Несколько часов экскурсии умучили его окончательно. Михаил остановился вблизи уединенного краснокирпичного Воскресенского скита, состоящего из храма, двухэтажного келейного корпуса с мезонином и подсобного здания с баней. Горе-паломник признался жене, что отстанет от экскурсии, здесь немного отдохнет, посидит и подождет группу, которая скоро сюда же и вернется.
Михаил присел на лавочку, прислонился спиной к холодной кирпичной стене, ограждавшей скит. Блаженно вытянул ноги, прикрыл глаза. Задремал ли? Тишина на острове стояла такая проникновенная, что было слышно, как в ней плещутся стрекозы. В воздухе витал едва уловимый, очень знакомый, хвойно-смолистый, какой-то родной запах, но его принадлежность Михаил вспомнить не смог. Покрутив головой в поисках источника благоухания, он увидел подошедшего к нему, вернее, неожиданно возникшего монаха. Это был высокий мужчина, с ухоженной бородой и синими, как васильки, глазами. Монашеская одежда сидела на нем ладно, была чиста и аккуратна, можно сказать, она шла ему. Монах был еще молод, на лице ни единой морщинки, выправкой напоминал бывшего военного. В левой руке незнакомец держал четки, сделанные из деревянных брусочков, обтянутых кожей. Подрясник прикрывала длинная, без рукавов, накидка с застежкой у ворота. Мантия, как заметил Михаил, была из простой, грубой ткани. Все одеяние было черным, как и положено. Однако в нем инок не выглядел отстраненным от мира. Фигура молодого чернеца была статной, величественной, взгляд умным, внимательным и строгим.
«Почему он сел рядом? – смутился Михаил. По словам экскурсовода, местные монахи крайне редко общаются с мирянами. Улыбнувшись про себя, Михаил вспомнил свои детские представления о монахах и, вообще, о церковных служителях. Тогда он был твердо убежден, что скит – это нечто, похожее на пещеру, где сидят монахи, никуда не выходят и фанатично молятся днем и ночью, без перерывов на сон и еду. Это оказалось детской фантазией.
– Здравствуйте, Михаил, – вдруг услышал он негромкий твердый голос.
– Здравствуйте, отче, – автоматически ответил он и в знак почтения встал со скамейки.
«Господи, откуда он знает мое имя?»
– Знаю, – словно читая его мысли, сказал монах. – Жду вас уже с утра.
– Меня? – с трудом пролепетал Михаил, потому что в горле от волнения пересохло. Повинуясь жесту монаха, присел рядом.
– Нет, вы не бойтесь и ни о чем плохом не думайте. Я ни с кем вас не перепутал, я ждал, чтобы напомнить: вам пора побывать на могиле матери.
– Чьей матери? – ошеломленно выдохнул Михаил.
– Вашей.
– На Красном Яру?
– Да, там.
Почтенного возраста мужчина смотрел на молодого монаха даже не с удивлением, а с полным непониманием. Слова и мысли в это время вихрем проносились в его уме, но зацепиться за какое-то доказательство реальности и остановиться не могли. Он был удивлен, растерян, напуган. Его, прожившего такую длинную и непростую жизнь, трудно было чем-то удивить. Особенно сегодня, в новой стране с ее абсурдными реалиями. Михаил был материалистом и вполне доверял научному знанию. Он не понимал и не принимал мистики, хотя бы потому, что достаточно насмотрелся на жуликов и шарлатанов, исцеляющих от всех болезней, привораживающих любовников.
Но чтобы такое случилось с ним?.. Вдруг отчетливо вспомнилось то трагическое летнее утро, когда мать, незримо прощаясь с сыном навсегда, предсказала маленькому Мишке трудную, но долгую и счастливую жизнь. Это ее предсказание ведь сбылось. А еще она говорила о бессмертии человеческой души, об истинном смысле жизни. В сердце Михаила стало проявляться и крепнуть новое или, вернее, давнее, но забытое, пока неотчетливое чувство – чувство веры в высшие миры и святые смыслы.
– Побывайте у матери до сентября. Она об этом очень просила, она будет ждать вас, – строго повторил монах, поднялся со скамейки и направился к скиту.
– Вы встречались с ней? А она об этом именно вас попросила? – вослед ему торопливо говорил Михаил, понимая смехотворность своих вопросов.
Монах остановился, внимательно посмотрел на Михаила, перекрестил его и негромко добавил.
– Ответы на эти вопросы ищите сами. Ищите спасения.
Через мгновение, как показалось Михаилу, монах скрылся, вернее сказать, исчез – так же быстро и таинственно, как и появился. Михаил застыл, опомнившись, хотел догнать чернеца, но послышались голоса, это группа, где была жена, возвращалась с осмотра.
– Что с тобой? – поспешив к нему, спросила Нина, с беспокойством вглядываясь в лицо мужа. – Ты очень бледен. Сердце болит?
– Все в порядке. Пока вы ходили, я посидел здесь на лавочке и достаточно отдохнул. Ты знаешь, я познакомился и поговорил с интересным человеком, с монахом. Такой высокий, осанистый, с густой бородой, а глаза, как у ребенка – синие, доверчивые. Ты не встретила его? – с надеждой в голосе спросил Михаил.
– Нет, я никого не видела.
– Странно, он ведь пошел вам навстречу.
Взрослый заслуженный человек стоял рядом с женой как смущенный ребенок. Он всегда доверял ей самые свои сокровенные мысли, но сейчас понимал, что не может и не должен рассказывать подробности неожиданной встречи – она, чего доброго, подумает, что у него помутился рассудок. Да и не только поэтому – мешала какая-то непреодолимая, непостижимая сила, как будто он дал кому-то клятву. Все произошедшее было непостижимым: вопреки его понятиям, его разуму, его воспитанию. Михаила огорчало сознание того, что он никому не сможет поведать о встрече и странной просьбе монаха, о его невероятной по человеческим меркам осведомленности. Откуда монах знает его имя? Откуда он знает, где могила его матери?..
…Медленно белый круизный теплоход отошел от причала. Медленно, покружившись над Монастырской бухтой, узкой полоской воды, глубоко врезанной в сушу, пролетел над островом прощальный корабельный гудок. Михаил, оставшись на палубе, поклонился изящному и простому храму Николая Чудотворца. Когда-то Александр Дюма, посетивший Валаам во время своего путешествия по России, сравнил эту церковку с драгоценностью, только что вынутой из бархатной шкатулки.
Потом Михаил перешел на корму. Остров удалялся вместе с Поклонным крестом, установленным апостолом Андреем Первозванным. Ему показалось, что возле креста кто-то стоял и смотрел вослед кораблю. Постепенно всё скрылось в сумеречной мгле, чудесный Валаам, «предивный остров, древний и святой», оставил по себе тревожную память и мучительно-непостижимые и неразрешимые вопросы.