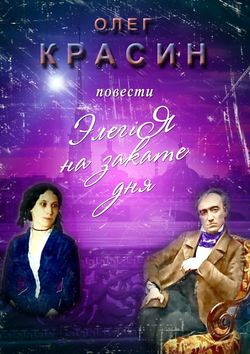Читать книгу Элегiя на закате дня - Олег Красин - Страница 22
Элегия на закате дня
Салон Карамзиных-Мещерских
ОглавлениеВ отличие от Тютчева, перед Еленой Денисьевой двери большинства светских собраний остались закрытыми. Нельзя сказать, что её отвергали сплошь все знакомые Тютчева – в присутствии Елены Александровны Федор Иванович встречался с некоторыми влиятельными издателями, крупными сановниками вроде Делянова32 или Каткова33.
Она поддерживала близкие отношения с Георгиевскими, жившими в Одессе. Среди них она чувствовала себя как в родной семье, ведь женой Георгиевского была её единокровная сестра Мари.
Нет, не все сторонились Елену Александровну, не все подвергали её остракизму. И всё же, всё же…
Салон Екатерины Мещерской был одним из тех салонов, вбиравших в себя лучшие умы столицы, в которых любил бывать Тютчев, но куда доступ для Лёли был закрыт. Вместе с тем, к середине пятидесятых он являлся всего лишь бледной тенью того блестящего салона, который содержала мать Мещерской – жена российского историографа Карамзина и который всегда был полон избранными представителями литературной богемы, известными политиками, вельможами, сливками интеллектуального общества.
Разница казалось существенной. Во-первых, салон Мещерских был беден числом гостей – у Карамзиных по выходным собиралось до шестидесяти человек, а у Мещерских от силы двадцать. Во-вторых, отличался он и более холодной атмосферой.
Если у Карамзиных общение всецело и активно поддерживалось одной из дочерей Карамзина Софи Карамзиной, которая, перемещаясь среди приглашенных, поддерживала и оживляла беседу, создавая тёплый и дружеский фон, то Мещерская не была охоча до мнений публики, пусть и известных людей. Она сторонилась светских разглагольствований, чаще уходила наверх, в комнаты второго этажа.
Слывшая ранее душой салона Карамзиных Софи Карамзина – прямая, некрасивая женщина, с крупным чертами лица и широкими черными бровями, окаймлявшими глаза двумя полудугами, со смертью матери словно утратила интерес к задушевным беседам и интимным откровениям.
Она уже не бродила с любезным и оживленным лицом меж гостей, а сидела с меланхоличным видом на одном из кресел, изредка подключаясь к общим разговорам. Даже обязанностью разливать чай, за что её прозвали «самовар-паша», она теперь откровенно пренебрегала.
Неизменным остались только лампа на столе, крепкий чай с густыми сливками и тартинки со свежим маслом, приготовленные Софьей.
Если Софи Карамзина и не блистала красотой, то этого нельзя было сказать о её невестке Авроре. Аврора по первому мужу имела фамилию Демидова и после его смерти унаследовала огромные богатства. Будучи вдовой, она страстно влюбилась в брата Софи Андрея Карамзина, который был на несколько лет её моложе, и вышла за него замуж. Именно Аврора, статс-дама двора, признанная красавица и умная женщина украшала собой гостиную Мещерских.
С удовольствием посещая приятное общество Мещерских-Карамзиных, Тютчев часто и подолгу беседовал с Андреем. Он казался ему дельным человеком, умным собеседником. Вообще Тютчев делил людей на две категории: на людей интересных и на скучных, причем независимо от их сословной принадлежности и пола. Андрей, бесспорно, был ему интересен.
Всегда глубоко интересовавшийся вопросами смерти, Тютчев внимательно слушал рассказ Карамзина о кончине Екатерины Андреевны, его матери, смерть которой повергла петербургское общество в немое изумление своей нежданностью. Андрей, хотя мать и умерла несколько лет назад, продолжал оставаться под впечатлением того давнего события, будто оно случилось только вчера.
– Вы очень много думаете о смерти, – укоризненно пенял ему Тютчев.
– А вы Фёдор Иванович? Вы разве не думаете о ней? Я нахожу, что наши беседы весьма часто вращаются вокруг сего предмета, – отвечал Карамзин, пощипывая кончик уса. – Право, смерть, это то, что никогда не отпускает человека, если последний в здравом уме и светлой памяти. Все мы вынуждены постоянно думать о ней, считаться с её возможностью, ибо ничто не вечно под луной, как писал Шекспир.
– Я, конечно, думаю о ней, но в поэтическом плане. Мне льстит утверждение Гаврилы Державина. Вы помните?
– А я пиит и не умру?
– Да-да, в его стихе на смерть графини Румянцовой. Пииты не умирают и в этом есть лёгкое утешения для меня. Но мы переживаем слишком много утрат. Вам, наверное, известно, что меня постигло ужасное горе с моей первой женой Элеонорой. Впрочем, как и вас, с вашей уважаемой всеми и почитаемой матушкой, Екатериной Андреевной. Тяжелее всего сознавать, что столько уже людей исчезло из нашей жизни, чтобы никогда больше не явиться пред нами! А ведь они были любимы, близки. Ах, как ужасна сама смерть! Как ужасна! Признаться, дорогой Андрей Николаевич, я по многим скучаю.
Тютчев покачал головой, и глаза его на минуту затуманились дымкой воспоминаний.
Он показался Мещерскому грустным и усталым, сидел напротив в большом кресле, как нахохлившаяся замерзшая птица. Кресло, перевезенное в гостиную Мещерских из дома покойной Карамзиной, было обито красным, выцветшим от времени штофом. Может быть, оно напоминало Тютчеву о прежних временах, когда он был молод, здоров, не был седым, когда блистал неподражаемым остроумием в салоне Екатерины Андреевны. И теперь он сидел или парил в этом кресле, точно белоголовая птица в красном небе, тоскующая о стае, которая улетела без него.
Рассеяно посматривая на Андрея Карамзина, Тютчев не поделился тем, что его гложут нехорошие предчувствия в отношении собеседника. Приснившийся стол, вращающийся во время спиритического сеанса, ясно показывал буквы означавшие, скорее всего, «Андрей».
«Это было имя Андрей, – подумал он. – Неужели Андрей Карамзин. Но как же? Зачем? Для чего?»
Буквы, которые он узрел, выплыли из сна, как по реке из тумана выплывает пустая лодка, без рыбаков, без хозяина. Он видел такую в детстве. Та лодка зацепилась за берег Овстуженки – большая, тяжелая, пахнущая сырым деревом, рекой, тиной. Весла торчали в уключинах и едва приметно шевелились, словно усы огромного жука. Они будто приглашали к путешествию в неизведанное, как манил к себе корабль Одиссея, так и оставшийся в веках без названия.
Лодка из детства тоже была безымянной и он, как Одиссей, хотел забраться в неё и уплыть далеко-далеко в поисках приключений. Только старший брат Коля наябедничал, и мать сделала выговор за дурные намерения.
И всё-таки он, Тютчев, осуществил свою мечту – уплыл-уехал за тридевять земель в Баварию, в Мюнхен. Но это было уже потом, когда закончилось детство.
«Ах, о чем это я? Я же думал об Андрее. Буквы в спиритическом сеансе. Буквы выплыли из темноты, как лодка из тумана – таинственные и потому страшные».
– Давайте поговорим о политике, – прервал молчание Карамзин. – Вы думаете, европейские державы рискнут воевать из-за Турции? Мы, конечно, первыми начали – заняли Валахию и Молдавию, но ведь наш поход был инспирирован благими намерениями, призванными показать миру, что мы не оставим без протектората христиан, томящихся под гнетом Порты.
– Ну что вы, Андрей Николаевич! Наши действия отнюдь не вызваны политикой османов, которые лавируют между двумя сильными державами. Они вызваны амбициями Наполеона, страстно желающего реванша за восемьсот двенадцатый год.
– Конфликт в Вифлееме34? Вы об этом?
– Конечно! Хотя Вифлеем лишь повод для Франции. Если бы его не было, возник бы другой, – рассеянно заметил Тютчев. – Знаете, Андрей Николаевич, а я ведь в какой-то мере предчувствовал нашу конфронтацию с Западом. Докладывал свои соображения о надвигающейся грозе, но, увы! И вот теперь, все мы задаемся вопросом: почему, каким образом, Россия, помогая другим странам на континенте, оказалась предана ими, брошена одна, без союзников, на произвол судьбы. В этом мне видится злобный рок, фатум, вечный антагонизм между Западом и Востоком.
– Значит, полагаете вы, мы погибнем? – задумался Карамзин, закручивая правый ус в колечко.
– Есть два Запада: Красный Запад и его антагонист. До сих пор мы занимались только тем, что спасали второй Запад от Красного. Теперь же я полагаю, будет наоборот – нас может спасти революционная Европа, начав выступления во многих странах и заставив коалицию интервентов отказаться от своих замыслов.
– Милый, дорогой Федор Иванович, как же это неправильно, – с жаром заговорил Карамзин, – чудовищно несправедливо, когда к таким людям как вы не прислушиваются в правительстве.
Тютчев с благодарностью посмотрел на собеседника. От Андрея Карамзина не приходилось слышать глубоких выводов или достаточно оригинальных суждений, но его поддержка в данном случае была приятной.
В глубине души Тютчев считал, что вина за сложившееся положение во многом падала на императора. Последние годы Николай занимался больше мировыми делами, чем империей. Гроза на Западе наливалась, набухала, у границ полыхали зарницы, но императору казалось, что это не кровавые сплохи грядущих сражений, а отблески рождественских огней. Непонимание и нетерпимость подводили его, а хитроумный интриган, министр иностранных дел Нессельроде, ничем не помог со своими связями при венском дворе.
Всё это наблюдал Тютчев, предвидел, остро переживал. Но что толку переживать, если никто не ставил его всерьез, за вычетом другого дипломата – князя Горчакова, который и сам оказался не у дел.
А ведь он, Тютчев, в свое время предлагал замечательный проект распространения русского мнения в Европе посредством западных газет. Требовалось лишь выделить финансы, и уж он бы нашел газеты и репортеров, и совершилось бы столь важное, нужное дело для России – западному обывателю рассказали бы правду о восточной огромной стране, правду, а не ложь, фантазии или злобную клевету, которой были сплошь усеяны мемуары, записки, информационные бюллетени и ведомости. Одна книга маркиза де Кюстина35 чего стоила!
Тютчев достоверно знал об атмосфере информационных миазмов, отравляющих политический воздух Европы – он достаточно пожил среди сытых, недалеких и потому легко внушаемых бюргеров.
Проект Тютчева вызвал интереса государя императора, но, к огромному сожалению Фёдора Ивановича, дальше интереса дело не двинулось.
– В любом случае, нам придется воевать, даже если нас спасёт красная Европа. – раздумчиво протянул Карамзин.
– По крайней мере, Нессельроде ведет к этому.
– Но ведь граф Нессельроде опытный политик, неужто он не сможет договориться с другими европейскими политиками о мире? Возможно, – предположил Карамзин, – надо обратиться за поддержкой к Австрии, ведь государь спас австрийцев от кровавой революционной смуты.
– Ах, дорогой Александр Николаевич, – насмешливость вновь вернулась к Тютчеву, – влиятельность канцлера на европейские дела сильно преувеличивают. Он ведь как египетский бог, прячущийся в овощах. Берешь такой овощ, чувствуешь, что внутри бог, но не видишь ничего кроме овоща. А что касаемо Австрии – они сейчас всего боятся. Австрия – это Ахиллес, у которого пятка повсюду. Они ссорятся с нами, своими друзьями, дабы не компрометироваться перед врагами.
– Ежели так, – продолжил Карамзин, нервно дернув рукой, словно рубанув шашкой врага, – я попрошусь на службу, в действующую армию.
– Но вы же… у вас семейное дело. Управление заводами на Урале должно отнимать много времени. И потом, на кого вы оставите Аврору Карловну?
Упрямо сомкнув брови, Карамзин, возразил:
– Любезный Фёдор Иванович, в минуту трудностей и опасностей, которые грозят Отечеству, я не могу отсидеться за жениной спиной. Почитаю за честь служить в армии, а если потребуется, то и отдать свою жизнь за императора.
Тютчев пристально посмотрел на него.
– Голубчик, – пробормотал он, – голубчик, Андрей Николаевич, не надо отдавать свою жизнь, не стоит, лучше берегите её!
Андрей Николаевич Карамзин погиб в мае, вскоре после начала Крымской войны, будучи полковником. Опрометчиво, без должной разведки, он завел свой отряд в Валахии вглубь неизведанной территории и попал в засаду.
Как это часто бывает в военные времена, на другой день после его гибели жене пришло длинное письмо, написанное Карамзиным, в котором он описывал свою военную жизнь, шутил, надеялся на скорую встречу. Аврора читала письмо родным, с трудом сдерживая слезы. В эти дни все отмечали её мужество и стойкость перед лицом горестей, обрушившихся на семейство, подобно разрушительной буре.
Неужели она и впрямь оказалась роковой женщиной, мужья и возлюбленные которой находили безвременный конец?36
Гибель Карамзина угнетающе подействовала на всех членов салона Мещерских, но особенно на его сестру Софи Карамзину. С того времени она начала себя странно вести, заговариваться, не узнавать близких. На Аврору она глядела с подозрением, придумывая мнимые угрозы с её стороны, и несколько раз в обществе называла её роковой Авророй, не думая, что это прозвище среди родных и близких друзей звучит, по крайней мере, неуместно.
Очень переживал и Тютчев. И, не только потому, что было жалко Андрея, жалко его жену, его братьев и сестер, но с увяданием Карамзинских женщин салон терял свой непередаваемый шарм, очарование умного дома, дающего душевный уют, где каждый находил свое место. Петрарка писал о народе, который родится в горах и которому умирать будет не больно. Тютчев, тоже чувствовал, что умирать ему будет не больно, но больно, когда рядом умирали другие.
32
Граф Делянов Иван Давыдович (1818—1897гг.) – государственный деятель Российской империи, камергер, был директором Публичной библиотеки, министром народного просвещения.
33
Катков Михаил Никифорович (1818 – 1887гг.) – известный русский публицист, издатель, литературный критик. Редактор газеты «Московские ведомости».
34
Конфликт между Францией и Россией из-за ключей от Церкви Рождества Христова в Вифлееме. В декабре 1852 года турецкой стороной ключи переданы французскому католическому духовенству, что вызвало недовольство Николая I и ввод русских войск в Молдавию и Валахию.
35
Маркиз Астольф Луи Леонор де Кюстин (1790 – 1857) – французский писатель, путешественник, после путешествия в Россию издал книгу – «Россия в 1839 году», которая часто приводятся как пример русофобии и необъективного взгляда на Россию.
36
«Роковая Аврора» – так прозвали Аврору Шернваль, перед замужеством за Демидовым она потеряла двух женихов, внезапно умерших перед свадьбой. Её муж Павел Демидов также скончался не старым в 42 года.