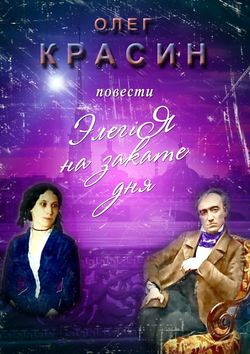Читать книгу Элегiя на закате дня - Олег Красин - Страница 4
Элегия на закате дня
«Пускай любить он не умеет – боготворить умеет он!»
Оглавление– Теодор! Теодор!
Голос Эрнестины Фёдоровны доносится из-за дверей. Пахнет свежезаваренный кофе, верно, жена ожидает на завтрак. Хотя зачем ждать? Он вчера поздно вернулся после бала у графини Юлии Строгановой и может позволить себе ещё поспать.
В глаза назойливо бьют лучики солнца. Тютчев с досадой мысленно обругал камердинера, что тот не до конца прикрыл плотные занавеси штор. Камердинер был с ленцой, любил поспать при всяком удобном случае и при этом громко храпел. Когда-то давно Тютчев дал ему прозвище «Brochet»1 за остроносое вытянутое лицо, худощавую невыразительную фигуру. Щука был чехом, которого он нанял, когда служил по дипломатической части в Мюнхене и звали его Эммануил Тума2. Впрочем, как благовоспитанный господин Фёдор Иванович, конечно, звал его по имени, а прозвище использовал только в личной переписке и приватных разговорах с близкими.
Жена постояла у дверей и, не услышав голоса мужа, тихо отошла. Она была спокойной, выдержанной, дисциплинированной, как все немки. Когда переехала вместе с ним в Россию, принялась усердно изучать язык и делала определенные успехи. Но все-таки… «Учила, но не доучила!» – усмехнулся про себя Тютчев. Дома они разговаривали по большей части, на немецком языке, а переписывались на французском.
Тютчев лежал, не открывая глаз. Яркий солнечный свет перестал раздражать.
Отчего-то вспомнилась далёкая молодость, время, проведенное в Баварии. Он представил зеленое плоскогорье, упиравшееся на сервере в Дунай, а на юге в отроги Альп, аккуратные немецкие городки, островерхие кирхи.
Беззаботное, золотое время! Время, наполненное солнцем, любовью, политикой и музыкой.
О, этот Мюнхен! С этим ухоженным и уютным немецким городом у него, Тютчева, многое было связано. Там он встретил первую жену Элеонору – урожденную графиню Ботмер, подарившую ему трёх дочерей: Анну, Дарью и Катю. Девочки оказались умненькими, славными, но не слишком привлекательными.
В Мюнхене же возникали и новые любовные связи, мимолётные, ни к чему не обязывающие и от того приятные. Как оказалось, молодой дипломат, к досаде Элеоноры, обладал слишком увлекающейся натурой. Она-то ожидала встретить спокойного и уравновешенного человека. Кто же знал, что ей достанется поэт!
С одной из девушек – Амалией Крюденер, у Тютчева случился длительный роман. Впрочем, это было еще до Элеоноры.
Девушке исполнилось четырнадцать, а ему двадцать один, когда между ними возникли романтические отношения и пролетели жаркие искры любви. Амалия внешне казалась идеальной – совершенная красавица и кто-то, Тютчев уже не помнил и кто, сравнил её с Венерой Медицейской3. Дело зашло так далеко, что юный Фёдор попросил руки Амалии. Но… Он был не богат и не титулован, а потому родители Амалии поспешили выдать её в шестнадцать лет замуж за секретаря русского посольства Крюденера, который был старше на двадцать два года.
Возможно от отчаяния, или от тоски – Тютчев никогда не задумывался над этим, – он и женился на Элеоноре, вдове с четырьмя детьми, которая к тому же оказалась старше его на три года. Он не чувствовал к ней оглушающей, страстной любви, которую питал к Амалии, однако благодарность была.
Нести, так называл Тютчев Эрнестину Фёдоровну, вновь подошла к двери, но стояла молча. Ему даже показалось, что он явственно слышит её дыхание, видит холодное лицо, непроницаемые голубые глаза. Чего-то не хватало в их отношениях – теплоты что ли, сердечности. По крайней мере, так казалось Тютчеву. Она, конечно, любила его, но по-своему, по-женски, легко отстранившись от иных историй и обстоятельств его жизни, случившихся до её появления, и не допуская их в свой интимный мир.
Например, её отношение к детям Тютчева от первой жены Элеоноры.
Эрнестина ведь так и осталась к ним равнодушна, сердечно не привязалась к девочкам, в чём и призналась его сестре Дарье, в замужестве Сушковой. Это было прискорбно, но ничего не поделаешь! Зато супруга превратилась в незаменимого помощника, в почти личного секретаря. Благодаря ей десятки стихов, написанных им на клочках бумаги и разбросанных по разным уголкам, были терпеливо переписаны и сохранены для потомства.
За дверью слышался невнятный разговор. Кажется, Нести что-то обсуждает со Щукой.
Тютчев отвернулся к стене, пряча лицо от утреннего солнца. Он вспоминал, когда впервые увидел молодую Эрнестину, баронессу фон Дёрнберг. Это было на балу в Мюнхене во время праздничного карнавала. Красивая вдова с большими голубыми глазами, загадочной улыбкой на устах, роскошными белыми плечами пленила его с первого взгляда. «Я вручаю вам свою жену», – заявил тогда муж Эрнестины барон фон Дёрнберг, почувствовавший себя дурно. И его слова оказались пророческими – через несколько дней он скончался от тифа, эпидемия которого охватила Баварию.
Так завязались романтические отношения между ним, Тютчевым, женатым человеком, содержащим большое семейство, и молодой вдовой.
Всё дальнейшее было одновременно и упоительным сном, и кошмаром. Тайные встречи с Эрнестиной, подозрения жены Элеоноры… Он и сейчас, спустя столько лет с содроганием вспоминал то время. Ему приходилось лгать, изворачиваться, но бросать Элеонору не имел охоты. Он к ней привык, он не желал ничего менять, он…
Да что там говорить! Ему было удобно.
Он хотел этих женщин обеих, не в физическом плане – гулящих девок легко можно найти в борделях Мюнхена или Турина, где Тютчев служил дипломатом, ему нужна была их привязанность, нет, больше – любовь, обожание. Только тогда он чувствовал в себе подъем, стремление жить, творить и восхищаться миром.
Потом же Элеонора умерла. Возможно, её чувствительное сердце не выдержало, узнав об измене. Он всю ночь просидел у тела почившей и говорят, с того времени, сделался седым. А Эрнестина, вышедшая за него впоследствии замуж, родила трех детей и превратилась в спокойную, рассудительную матрону, без внутреннего огня в душе, без того обольстительного обаяния, который так его привлекал. Но дом – это теплое одеяло, укрывающее с головой, когда вокруг веет стужей, и Нести умела создавать уют. Поэтому он не мог без неё обходиться, решительно не мог.
Двери отворились, в спальню вошел Щука. Тютчев с неохотой повернулся к нему.
– Месье Теодор, – обратился камердинер, – извольте завтракать! Мадам уже ждёт в зале. Давайте одеваться!
– Иду, голубчик, иду! – ответил Тютчев, продолжая размышлять: вставать ему или ещё поваляться. Он близоруко щурился – очки лежали на столе. Пожалуй, надо подняться, чтобы составить компанию Эрнестине Фёдоровне, она не любила завтракать одна.
На душе было тихо и покойно: никаких бурь, никаких переживаний, никакого трепета любви. «Я будто покойник, – вдруг мелькнуло в голове, – или не покойник, но медленно умираю».
Он поднял вверх руку и посмотрел на ладонь. Она показалась ему бледной, бескровной, как у мертвеца. «Живу точно и не живу, – подумал Тютчев, и на ум пришло неожиданное сравнение, – я словно цветок, положенный меж страниц любовного романа и там засохший, потому что забыт хозяйкой. Хотя нет, не в любовный роман. У Эрнестины есть альбом-гербарий. Наверное, она положила меня туда, меж собранных цветов. Цветы эти хотя и памятные ей, но уже засохли. Вот также и со мной, и тут уж ничего не попишешь!»
Положительно, истина заключалась именно в этом: он не жил, а спал с открытыми глазами, словно покойник. Ведь мертвые люди похожи на живых, потому что, глядя в вечность, тоже видят сны, только невидимые живым.
Казалось, что и творчество уснуло его вместе с Тютчевым глубоким старческим сном – за прошедшие десять лет он писал удручающе мало, эпизодически. Из-под пера выливались только редкие стихи да скучные политические статьи, а из уст звучали скупые оценки событий, отстраненные и не волнующие автора, поскольку находились на периферии его жизни.
Они жили в Петербурге на излете сороковых, в самый закат эпохи императора Николая. Хотя до смерти властителя северного царства оставалось еще около пяти лет, но что-то витало в воздухе, что-то сводило на нет то искрящееся веселье на балах, ту атмосферу бесконечного праздника и беспечного времяпровождения, царивших при Николае.
Увядание! Это, пожалуй, точное слово.
Император старел и увядал, старел вместе с ним и его двор. Ставшие привычными за долгие годы отношения утратили ту волнующую новизну и остроту, которые задавали тон во времена, когда окружение императора было потрясающе обаятельным и молодым.
Куда подевались остроумцы, умевшие точным словом, колкой эпиграммой сразить врага наповал? Куда удалились известные красавицы, знаменитые интриганки, фаворитки минувших дней? Куда делась страсть, еще недавно полыхавшая ярким огнём в паркетных залах дворцов, страсть, сводившая с ума не только молодых сумасбродов, но и людей вполне благоразумных, вроде графа Бенкендорфа?
Тютчев тоже ощущал этот запах угасания, тлен уходящего времени, ведь ему было почти сорок семь, совсем старик.
Черноокая Россети – Смирнова-Россет, с которой так любил беседовать Пушкин, звала его по-простому Тютькой. Тютьке многое прощалось и, в первую очередь, самовлюбленность. Впрочем, великие люди – все нарциссы. Тютька же был по-мальчишески порывист, изящно рассеян и гениально острил. Он был «блестящий говорун», как характеризовала его другая знакомая Пушкина графиня Долли Фикельмон.
Но женщины уже не так будоражили его воображение, не так влекли, как в молодости. Он понимал, чего хочет стареющее вместе с ним поколение: смерть уже не за горами, и надо наслаждаться в полной мере остатком еще непрожитой жизни.
Он понимал и императора, когда тот, стоя перед полками на разводе, внезапно захотел помочиться. Пикантность ситуации заключалась в том, что позади в колясках сидели дамы, закрываясь от солнца легкими зонтиками. Николай, нисколько не смутясь, повернулся в их сторону и опорожнился.
Разве такое было бы возможно лет двадцать назад? Или десять? Никто и представить не мог, чтобы галантный Николай, император-рыцарь, вёл себя vulgairement4. А теперь никого не удивило. Дамы только закрылись зонтами и сделали вид, что ничего не случилось, император же продолжил развод войск.
Узнав об этом случае, Тютчев – известный острослов, промолчал и не отпустил пикантную шутку, как, наверняка, сделал бы в молодости, ведь его шутки были широко известны в свете, передавались из уст в уста и делали знаменитым, помимо стихов.
Вот она старость! Увядание, одним словом.
Душа его немела в реке времени, как немеет рука или нога, когда неловкое положение тела прекращает кровоток. Душа немела без притока любви. Его сердце билось тихо и вяло, смирившись с осенней распутицей жизни, а те упоительные времена молодости, когда он восхищался бирюзовыми горами Альп или приходил в восторг от лазурных волн Средиземного моря, казалось, безвозвратно канули в вечность.
Ф. И. Тютчев. Дагерротип. Около 1850г.
1
Щука (фр.).
2
Тума Эммануил (1802—1886) – камердинер Тютчева, служил с 1830-х гг. до смерти Тютчева, чех по происхождению.
3
Копия греческого оригинала богини любви Афродиты. Статуя находилась в галереи Уффицы герцогов Медичи, откуда получила прозвище Медицейской.
4
Вульгарно (фр.).