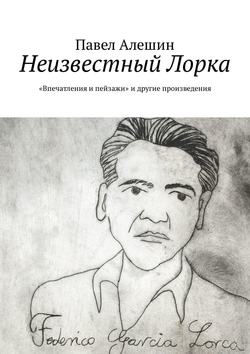Читать книгу Неизвестный Лорка. «Впечатления и пейзажи» и другие произведения - Павел Алешин - Страница 10
Впечатления и пейзажи
II
Затворничество
ОглавлениеКогда я осмотрел церковь, почтенный монах повел меня посмотреть на изображение Святого Бруно в убогом алтаре одной скрытой капеллы. «Это Святой Бруно работы Перейры», – объявил он мне… и рассказал несколько историй, связанных с этим образом. Несомненно, скульптура сделана хорошо, но как мало в ней выразительности! Какая поза вечной театральности! Святой тишины и мира равнодушно смотрит на распятие, которое держит в руках, как смотрел бы на любой другой предмет. Ни духовного страдания, ни борьбы с плотью, ни небесного безумия нет в жестах святого. Это просто человек… любой человек, доживший до 40 лет, имеет такую же печать обыденного страдания на лице… Мы, испанцы, с трудом терпим вид некоторых скульптур, перед которыми специалисты приходят в восторг, ни поза, ни выражение лиц которых не передают эмоций. Это модели, великолепно выполненные и порой великолепно раскрашенные… но как далек дух любого персонажа от его портрета.
Святые герои стародавних историй, романтики, страдавшие из-за любви к Богу и к людям, не обрели художественного воплощения. Достаточно пройтись по залам музея Вальядолида! Кошмар! Правда, есть несколько удач, очень мало… но остальные…
Глубокую скорбь причиняет созерцание страшной посредственности скульптур. Это искусство слишком земное. Но ведь герои этой скульптуры достигли высших ступеней духовности… Ни одно изображение не соответствует изображаемому.
Скульптура может быть холодным искусством, неблагодарным к своему творцу. Источник страсти скульптора разбился вдребезги перед камнем, из которого он высекал… Он хотел придать статуям жизнь – ему удалось, он хотел придать им чувство и душу, и ему удалось и это… но он не смог открыть с их помощью священную и нежную книгу, в которой остальные люди могли бы прочитать эмоции, способные поднять их в одинокий сад мечтаний…. Эти статуи воспроизводят… но никогда не смогут передать суть…
Этот святой, неотесанный, как какой-то мужлан, и крепкий, как кастильский крестьянин, показался мне изображением бедного, старого послушника, из тех, что разносят бобовый суп по вечерам и вечно окружены буйной толпой бедняков, состарившихся от голода. Неудачен замысел Перейры, вообразившего Бруно, безумного в своем спокойном и мучительном мистицизме, самым обычным человеком, который только что поел и решил отдохнуть… Фантазия Перейры скудна – как почти у всех скульпторов, чьи работы выставлены в Вальядолиде, создававших идеальные фигуры, почти невероятные, изображения силачей, идиотов и балбесов…
«Ах»! – воскликнут многие, – «какая глупость! Эти скульптуры великолепны! Что за чудо эти ладони! Посмотрите же, как анатомически верно все передано!» Да, да, сеньор, но единственное, что меня убеждает, – это внутренняя сущность вещей, иначе говоря, душа, инкрустированная в них, и тогда, когда мы их созерцаем, наши души должны слиться воедино. И это бесконечное слияние превращает эстетическое чувство в радостную печаль, охватывающую нас перед лицом красоты… Перед этой статуей святого Бруно, которую так превозносят ученые и неученые люди, я ничего не испытал, разве что, картезианское безразличие. Возможно, автор не хотел сделать бесчувственную статую, но мне она показалась именно такой. Этот холодный, безжизненный взгляд перед горечью крестной муки заключает в себе тайну Ла-Картухи. Так мне кажется.
***
«…И из-за обстоятельств, о которых не время говорить, он стал затворником…». Меня сопровождал бородатый, строгий, но добродушный монах.
Мы вышли из церкви… Вечер уже хотел пропеть последние модуляции в золотом, розовом и сером. Атмосфера была ясная, как спокойная вода лесов. Свет был нежный, как тоска по рассвету. Слова были спокойны, как вечерние молитвы…
Отворилась плоская дверь, и мы вошли в священное пространство монастыря. В интерьерах монастыря Картуха-де-Мирафлорес нет никакой роскоши. В коридоре полыхала невзрачными красками жуткая коллекция картин со сценами мученичества. Монах, изображенный на одном портрете, призывал к молчанию, поднимая палец к губам… коридор терялся в молочном сиянии.
Далее начинался другой коридор с множеством дверей, разверстых в белизне стен, и с деревянным крестом, покрашенным в черный цвет… Чувствовалась в этих помещениях смиренная торжественность, тоскливая суровость и тревожное молчание. Все поневоле безмолвно. Хотя над этими крышами – небо, голубки, цветы, и над этими крышами – грозы, и дожди, и снега… но сила духовных истязаний накладывает печать ужасающей неподвижности на бедные, белые клуатры. Ничего не было слышно… наши шаги были оскорблением, будившим далекое эхо.
Время от времени, когда мы останавливались, свинец спокойствия страстно растекался в воздухе… Когда мы проходили мимо некоторых затемненных комнат, пахло айвой. Пахло страданиями и страстями, почти заглушенными. Дьявол плетет козни среди одиночества. Тишина Ла-Картухи мучительна. Эти люди оставили жизнь в мире, убегая от грехов, от страстей. Они захотели скрыть в этом ковчеге древней поэзии горечь сердца. Они думали, что обретут здесь душевное спокойствие, что смогут предать забвению желания и разочарования; но этого не случилось… Разумеется, тут их страсти вновь расцвели с еще большей силой.
Одиночество – это великая кузница духа. Человек дрожащий и сбитый с ног жизнью, пришедший в Ла-Картуху, не найдет здесь утешения.
Мы – несчастные люди, мы хотим управлять нашими телами и подчинять вещи нашим телам, ни во что не ставя душу. Эти люди похоронили здесь тела, но не души. Душа находится там, где желает. Все наши усилия напрасны, нам не вырвать ее из того места, в которое она вцепилась. К тому же… разве мы не знаем, чего хочет наша душа?
Какой мучительной тоской веет от этих похоронивших себя людей, передвигающихся, подобно куклам в театре пыток! Какие взрывы смеха и плач может подарить сердце! Нашим душам даны изумительные страсти, и они не могут избавиться от них. Плачут глаза, молятся уста, скрещиваются руки, но это все бесполезно; душа остается полна страстей, и эти люди, добрые, несчастные, ищущие Бога в этих пустынях страдания, должны понять, что напрасны муки плоти, когда душа просит другого.
Картезианцы – пример удовлетворенного малодушия. Они жаждут жить рядом с Богом, отгородившись от всего мира… но я спрашиваю, что за Бога они ищут? Это, безусловно, не Иисус… Нет, нет… Если бы эти люди, не выдержавшие ударов судьбы, грезили об учении Христа, то они пошли бы не стезей покаяния, но стезей милосердия. Покаяние бесполезно, оно эгоистично и исполнено равнодушия. Молитвой ничего не достигнуть, как и умерщвлением плоти. В молитве мы просим о том, что нам не может быть дано. Мы видим или хотим увидеть далекую звезду, но она затемняет то, что рядом, то, что нас окружает. Единственная стезя – это милосердие, любовь к ближнему.
Любые страдания может перенести душа, как раскаиваясь, так и сострадая; эти люди, которые называют себя христианами, не должны убегать от мира, как они это делают, но должны войти в него, помогая остальным в их несчастьях, утешая их, чтобы самим утешиться, уча добру и распространяя мир. Так их беззаветные души действительно уподобились бы Христу из Евангелия. Ла-Картуха – это настоящее антихристианство. Любовь, которую Бог подарил нам и которую картезианцы нам проповедуют, отсутствует здесь, и сами они не любят друг друга. Они говорят друг с другом только по воскресеньям, недолго, и находятся вместе только во время молитв и трапезы. Они не братья. Они живут поодиночке.
И все ради того, чтобы не грешить… чтобы не говорить! Как будто во время сокровенных размышлений они не грешат! Они хотят, как говорили раньше, иметь незапятнанные тела, но душа… а душа может быть с любой грязью! Эти несчастные, которым все должны сочувствовать, думают обмануть себя и собственные чувства мукой плоти. Кто может с уверенностью сказать, что ни один из них не испытывает желаний, не любит далеких женщин, из-за которых пришел сюда? Не ненавидит и не отчаивается? Они будут держать перед собой Распятие, как Святой Бруно Перейры, будут плакать, призывая небесные сущности, но при этом их души будут любить, желать, ненавидеть… и плоть их тоже вырвется на волю… и ночами многие из этих мужчин, те, что еще молоды и полны жизни, будут созерцать в постели видения женщин, которых они любили, людей, которых презирали, и будут любить и презирать, и захотят закрыть глаза, но не закроют, потому что мы, люди, не можем направить наши души к озеру, где нет страданий и есть покой, к которому мы стремимся. Эти люди, поражающие своей решимостью, убегают от шума мира, веря, что в нем таятся грехи, и уходят в другое место, столь же благоприятное для размышлений, как и для греха. Они уходят в сад, годный как для добра, так и для зла, и испытывают великую страсть, они, бегущие от нее. Великую страсть тишины.
Здесь умирают, испив чашу духовной страсти, так и не сделав ничего доброго… Доброго для себя? Думаю, что нет, если бы они излили слезы среди несчастных, то унесли бы в другой мир благочестивый куст с белыми розами воспоминаний, в то время как тут они умирают, не испробовав духовного чуда совершенного добра. К тому же, они находятся здесь, уже не понимая зачем. Бог посылает нам страдания? Что ж, будем страдать, нам не остается ничего другого.
Но иногда мне кажется, что вы – гениальные противники того Бога, убегающие от мира, который Он создал, чтобы искать другого Бога покоя и тишины… но у вас не получится найти его, потому что бесчеловечная жестокость христовых мук сопровождает наше сердце, живет с нами до самой нашей смерти…
Какая всепоглощающая тишина! Все именно так видят картезианскую тишину – мир и спокойствие. Я увидел лишь беспокойство, смятение, невероятную страсть, которая пульсирует, как огромное сердце, в этих клуатрах. Душа хочет любви, безумной любви, и желания другой души, которая сольется с нашей… хочет кричать, плакать, взывать к тем несчастным, что размышляют в кельях, чтобы сказать им, что есть солнце, луна, женщины, музыка; воззвать к ним, чтобы они проснулись и сделали что-то хорошее для собственной души, находящейся в сумерках молитвы, и спеть им что-то более жизнерадостное и приятное… но тишина бормочет страстную григорианскую песню.
Проходя по залу, холодному и суровому, видишь Деву Марию с ее небесным покровом, вышитым звездами, с веселым мальчиком, держащим в руках высокую императорскую корону… это напоминает о весне… религиозная радость среди этой картезианской печали. Никого не было видно в залах, с нами говорила лишь сырость и странные запахи воска, доносившиеся из тенистого сада.
И еще тишина, тишина, и великая чувственность… Самый страшный кошмар этих людей, прячущихся от западни плоти и укрывающихся в тишине и одиночестве, которые являются великими афродизиаками!
Мы шли по столовой, исполненной благородного достоинства, где была кафедра для чтения внушительных речей о мученичестве и о милосердных делах… с белыми вазами, скромными столами, кажущимися воплощением добродетели… Алые занавески пропускали свет, наполняющий зал печальнейшим красноватым оттенком… еще пустые коридоры, и вот – главный внутренний двор Ла-Картухи.
Есть в этом дворе уголок с кипарисами, полный страха и тайны, где похоронены монахи. В центре возвышается крест, покрытый ржавчиной цвета старинного золота. Огромная синяя тень заполняет меланхолию пространства.
Есть увядшие кусты роз, стены романтично увиты жимолостью. Есть плакучие ивы, с ветвями элегантными и траурными. На земле разные посаженные растения, грушевые деревья и яблони….
В центре большой фонтан робко напевает мелодию воды… водоросли на нем облизывают камни… на разбитом и почти стертом лице маскарона улыбка…
В глубине, рядом с кладбищем – торжество плюща. Опускался вечер, отягченный нежным, задушевным светом…. Мы вернулись назад и вышли во внешний двор Ла-Картухи. Все купалось в чудесном розовом цвете. Покой природы.
Колокол пропел Angelus тяжелым, гармоничным голосом… Монах встал на колени, скрестил руки и поцеловал землю… На крыше в каморке ворковали голуби…
Это был час, в который души тянутся к вечности… Ветер говорил среди ветвей и наполнял плющ дрожью источника… Когда мы вышли, дали повсюду рассеяли бесконечную серость.