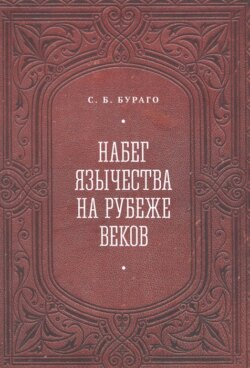Читать книгу Набег язычества на рубеже веков - С. Б. Бураго - Страница 8
Статьи разных лет
Понимание литературы и объективность филологического анализа[5]
ОглавлениеКак однажды верно заметил М. М. Бахтин, подозрительность предполагает «паспортизацию» текстов, доверие – понимание текстов1. Сама же «эра подозрения», которую мы пережили и которая в большой степени переживается нами и сегодня, обязательно характеризуется положением об относительности и, следовательно, принципиальной необязательности нравственного бытия человека. Последнее обусловило стремление ряда мыслителей XIX века и их современных последователей разыскивать «за масками моральных ценностей и социальных источников волю к власти, экономический интерес или бессознательное влечение» (Руткевич)2. Неестественная жестокость сформированных этим мировоззрением принципов социальных отношений говорит сама за себя.
Дело, однако, заключается в том, что любой вопрос, связанный с проблемой объективности нашего познания текста, предопределен общегносеологической проблематикой. «Исследование текстов, их взаимосвязей и взаимодействий, а также реализованных в них механизмов смыслообразования, – пишет С. А. Васильев, – сталкивается с рядом трудностей, причины которых кроются, видимо, в наиболее глубоком и фундаментальном противоречии разума, порождаемого самим способом бытия человека в мире»3. Противоречие это, по мысли философа, заключено одновременно в признании человеком «нечеловеческого» основания мира и в невозможности выделить это «нечеловеческое» в чистом виде. Самым сжатым образом это противоречие формулируется следующим образом: «Разум, поскольку он осознает ограниченность человека противостоящей ему мощью мира, не может не искать внечеловеческих оснований этой мощи, но то, что он в итоге находит, всякий раз оказывается человеческим «нечеловеческим» <…>. Мы полагаем, – заключает С. А. Васильев, – что данное противоречие неразрешимо, и потому его следует признать антиномией»4.
Безо всякого сомнения, следует согласиться с С. А. Васильевым в том, что здесь мы сталкиваемся с фундаментальной проблемой, без разрешения которой нечего и надеяться на серьезное исследование «механизмов смыслообразования» в текстах. В то же время нетрудно увидеть, что указанная философом антиномия базируется на признании абсолютного противостояния человека и мира. «Ограниченность человека», о которой здесь идет речь, есть его предметная ограниченность, не допускающая сущностного единства человека и мира, что в принципе свойственно скептической философии. Она-то и приводит к мертвой точке: неразрешимости фундаментального противоречия разума. Конечно, преодоление указанной антиномии разума возможно, если принять предлагаемую С. А. Васильевым концепцию «синтеза смысла на основе деятельности воображения»5: воображение как полноценный участник процесса человеческого познания раздвигает сферу деятельности разума и тем самым снимает все его антиномии. Однако здесь было бы необходимо выяснить взаимоотношение разума и воображения как таковых и определить тот «общий корень», из которого они произрастают, а также констатировать тот факт, что именно этот «корень» имеет самое существенное отношение к процессу человеческого познания. Иными словами, поставленный С. А. Васильевым вопрос о «синтезе смысла» закономерно обращает нас к концепции человека как наиболее фундаментальной проблеме, разрешение которой возможно, в частности, через анализ противополагания в истории человеческой культуры скептицизма и диалектики. Этот анализ (не вмещающийся, разумеется, в рамки настоящей статьи) выясняет, тем не менее, что плодотворное познание не может основываться на безусловной опредмеченности человека и на самодостаточной опредмеченности явлений вообще и что сущностная связь человека и мира есть не досужая выдумка кабинетного философа, а самая что ни на есть жизненная реальность. И если это так, то «нечеловеческое», то есть мир, сущностно с человеком не связанный, – всего лишь фикция, произведенная породившей «эру подозрения» философией скептицизма.
Таким образом, познание истины не может и не должно рассекать познающего на исследователя или художника и «просто человека», которого следовало бы каким-то немыслимым образом отодвинуть в сторону во имя объективности его работы. Напротив, объективность – в том числе и объективность понимания художественного текста – дается через самораскрытие личности в процессе познания. И здесь мы неизбежно касаемся круга проблем, очерченных «наукой о понимании», то есть философской герменевтикой. Однако каково отношение понимания текста к познанию истины?
Разбирая взгляды Шлейермахера на понимание, А. И. Ракитов, в частности, делает вывод, что для немецкого мыслителя «понимание как объект герменевтического исследования есть элемент или подпроцесс процесса познания, и этим регулируются отношения между герменевтикой и диалектикой»6. Исследователь в этом своем выводе отталкивается от следующего «наиболее концентрированного» изложения Шлейермахером своих взглядов: «1. Речь является посредником для общественного характера мышления, и отсюда объясняется взаимная принадлежность риторики и герменевтики и их общее отношение к диалектике.
2. Речь также является посредником мышления для индивида. Мышление изготавливается посредством внутренней речи, и постольку речь сама есть лишь ставшая мысль. Но там, где мыслящий находит необходимым зафиксировать мысль для самого себя, там возникает также искусство речи, преобразование первоначального, и поэтому также становится необходимым истолкование.
3. Взаимопринадлежность состоит в том, что каждый акт понимания есть обратная сторона акта речи; благодаря этому должно осознаваться то, какая мысль лежала в основе речи.
4. Зависимость заключается в том, что любое становление знания зависит от обоих»7.
А. И. Ракитов пишет: «Из приведенной выдержки со всей определенностью следует, что для Шлейермахера: 1. Понимание есть социально значимый процесс; понимание интеллектуальных процессов или мышления индивида и самопонимание возможно и необходимо для установления взаимопонимания в рамках социума…» – Все это само по себе бесспорно: общество не может существовать без того, чтобы люди хоть как-то но понимали друг друга, именно об этом – миф о Вавилонской башне. Но от внимания комментатора ускользнула наиболее важная мысль Шлейермахера об общественном характере мышления, которое возможно лишь при одном условии – при наличии общечеловеческого в каждом отдельном человеке, ведь мышление – одновременно интимно-индивидуально и обладает «общественным характером». Исследователь, между тем, далее пишет: «2. Понимание реализуется в мыслительной деятельности и ее продуктах…» – Разумеется, но почему только мыслительной? Шлейермахер ведь говорит об «искусстве речи», не замыкая тем самым речь в сферу чистого рационализма. Хотя можно ведь говорить и о художественном мышлении, и в таком случае, если бы было ясно, что «мыслительная деятельность» не сводится А. И. Ракитовым к голому рационализму, этот пункт комментария следовало бы считать вполне справедливым. Далее: «3. Мыслительная деятельность осуществляется лишь через язык и речь, существует лишь в них и через них…». – Вероятно, здесь следует признать, что у Шлейермахера сказано определенней: «речь есть лишь ставшая мысль». Кроме того, у немецкого мыслителя отсутствует разграничение «языка» и «речи», которое привносит в свой комментарий современный исследователь. Нюанс существенен: позитивистское разграничение «языка» и «речи» должно обусловить их трактовку как формы выражения мысли. И в самом деле: «4. Язык и речь, – комментирует исследователь Шлейермахера, – суть формы выражения мысли и понятия как продукта мыслительной деятельности…» – Вот этого у немецкого мыслителя нет и быть не может. В самом деле, само возникновение герменевтики как специального знания основывается на диалектической трактовке языка как непосредственной действительности мысли и сознания («речь есть лишь ставшая мысль»). Причем, как видно из сказанного Шлейермахером, мышление порождается («изготавливается») внутренней речью человека, но когда мысль необходимо зафиксировать, возникает «искусство речи», то есть риторика, которая преобразует первоначальную мысль и внутреннюю речь. Заметим, во-первых, что только фиксированная мысль составляет любой текст; во-вторых, что сам процесс фиксации мысли или искусство речи («риторика») есть не что иное, как интенсивное сопряжение в языке личностного с общенациональным и всечеловеческим. Фиксация мысли и возникновение речи в тексте, таким образом, есть реализация общего в единичном (личности) и единичного в общем (нации, человечестве). И если «риторика» есть искусство речи, есть авторский стиль, то герменевтика есть искусство понимания речи и авторского стиля. Причем сам этот авторский стиль – в силу общечеловеческого начала в личности и языке его создателя – предполагает понимание его сущности другими людьми, а искусство понимания (герменевтика) – в силу того же общечеловеческого начала в личности и языке читателя или слушателя высказанной фиксированной мысли – предполагает собственное активное проникновение в этот авторский стиль и реализованную в нем личность говорящего или пишущего, то есть предполагает дивинацию как творчество. Становление знания зависит одновременно от искусства речи и искусства понимания этой речи. Любая высказанная и воспринятая мысль и любой текст, таким образом, необходимо обусловливает духовное сближение людей, что и составляет основу общенациональной и общечеловеческой культуры. Конечно, мысль может быть верной или ошибочной, текст – правдивым или ложным, и все это необходимо скажется в языке и стиле, но само существование фиксированной мысли и текста, рассчитанных на их восприятие, есть условие самосознания человека и его познания других людей, а, следовательно (поскольку человек единосущен миру), и условие познания мира. Иными словами, герменевтика есть необходимое условие истинного познания. Разумеется, о языке и речи как «форме выражения мысли и понятия» в этом контексте говорить не приходится. Крен комментария А. И. Ракитова в сторону позитивистской лингвистики («язык» и «речь») и гегелевского идеализма (язык как «форма выражения мысли и понятия») характеризует исследователя как нашего современника, органично впитавшего в себя традиции философствующего языкознания XX столетия, но прямого отношения к основателю герменевтики нового времени все же не имеет.
И, наконец, последний пункт комментария взглядов Шлейермахера, с которого мы и начинали наш диалог с А. И. Ракитовым: «5. Понимание как объект герменевтического исследования есть элемент или подпроцесс процесса познания, и этим регулируются отношения между герменевтикой и диалектикой»8. Но у Шлейермахера речь идет об «общем отношении» риторики и герменевтики к диалектике, а вовсе не о каком-то «подпроцессе процесса познания». Здесь опять сказался стереотип теоретической лингвистики, обнаруживающей различные «подъязыки» языков. Налицо некая геометрическая фигура, сводящая и этот «подпроцесс процесса» к двухэтажной статике. Между тем у Шлейермахера прежде всего налицо единство риторики и герменевтики по отношению к диалектике, и это понятно, поскольку без искусства речи нет и искусства понимания, и наоборот. Что же касается диалектики, то она как принцип мышления обусловливает и буквально пронизывает всю герменевтическую теорию Шлейермахера, а как теория познания обусловливается все той же герменевтикой. Эта взаимосвязь герменевтики и диалектики есть теоретическое отражение взаимосвязи понимания и познания, которые не находятся ни в оппозиции друг к другу, ни в какой-либо механической субординации, а являются, по сути, обозначением единого процесса познания истины, но с коррекцией либо в сторону конкретного знания (герменевтика), либо на обобщенные принципы знания как такового и на целостную картину мира (диалектика). Так понимание текста и его автора есть в то же время и познание воплощенной в этом тексте живой реальности.
Однако можно ли понять текст адекватно намерениям его автора? Излагая универсальную герменевтику Шлейермахера, Х.-Г. Гадамер пишет, что, согласно взглядам немецкого мыслителя, «конечным основанием всякого понимания всегда должен быть дивинационный акт конгениальности, возможность которого основывается на изначальной связи всех индивидуальностей». И далее: «Шлейермахер на самом деле предполагает, что всякая индивидуальность – манифестация всей жизни, и потому «каждый носит в себе некий минимум каждого, а дивинация в соответствии с этим получает импульс от сравнения с самим собой». Он может поэтому заявить, что индивидуальность автора надо постигать непосредственно, «как бы превращая себя в другого». Когда Шлейермахер таким образом фокусирует понимание на проблеме индивидуальности, задача герменевтики предстает перед ним как задача универсальная. Ибо оба полюса – и чуждость, и близость – даются вместе с относительным различием всякой индивидуальности. «Метод» понимания должен держать в поле зрения как общее (путем сравнения), так и своеобразие (путем догадки); это значит, он должен быть как компаративным, так и дивинационным. С обеих точек зрения он остается «искусством», ведь его нельзя свести к механическому применению правил. Дивинация ничем не заменима»9.
Здесь следует прямо сказать, что такое решение вопроса о понимании устной ли, письменной ли речи представляется вполне убедительным. В самом деле, если исходить из принципа связи всех элементов мира (диалектика), а не их внешнего и механического соединения (скептицизм) – а я исхожу именно из принципа связи, – то для меня так же, как и для Шлейермахера, очевидно, что «каждый носит в себе минимум каждого». А раз так, то и понимание другого есть в большой степени понимание себя, и наоборот. И конечно, когда речь заходит о том, что читатель может понять произведение лучше, чем его автор, из этого следует только то, что процесс восприятия отличается от процесса создания большей степенью аналитичности, хотя и это читательское восприятие не сводится и не может сводиться к чистому рассудочному анализу. Филологический анализ художественного текста не должен отрываться от его эмоционального переживания, и, во всяком случае, должен учитывать это переживание как критерий верности самого анализа. Филологический субъективизм рождается именно тогда, когда умозрительное «схемостроительство» (П. А. Флоренский10) признается истиннее непосредственного переживания словесного творчества, хотя именно филология и призвана скорректировать то эмоциональное читательское восприятие, которое может быть основано и на неверном понимании текста, то есть на недоразумении. Функция филологии, таким образом, по сути, смыкается с задачами герменевтики, поскольку, как говорил Шлейермахер, герменевтика – это, прежде всего, «искусство избегать недоразумения»11.
Для немецкого мыслителя, таким образом, любой продуктивный диалог, в том числе и диалог автора художественного произведения и его читателя, должен быть герменевтически обусловлен, что и является необходимым основанием познания смысла произведения. У Шлейермахера сам смысл текста принципиально не существует где-то в стороне от личности его автора и личности его читателя, но может существовать лишь в сфере того общего, надындивидуального в личности, которое и дает возможность подлинной связи и взаимного понимания между людьми.
Иначе дело обстоит у Гадамера. Создатель «Истины и метода» убеждает, что, «стремясь понять какой-либо текст, мы переносимся вовсе не в душевное состояние автора, но, если уж вообще говорить о перенесении, в ту перспективу, в рамках которой другой (то есть автор) пришел бы к своему мнению». Это относится, как считает Гадамер, и к устному, и в еще большей степени к письменному тексту: «мы движемся в таком измерении осмысленного, которое само по себе понятно и потому никак не мотивирует обращение к субъективности другого. Задача герменевтики и состоит в том, чтобы объяснить это чудо понимания, которое есть не какое-то загадочное общение душ, но причастность к общему смыслу»12. Нетрудно заметить, что герменевтическая концепция «Истины и метода» отличается от романтической герменевтики (Шлейермахера) прежде всего тем, что в ней живая человеческая личность (и автора, и читателя) решительно отодвигается в сторону и взамен ее гипостазируется некий «общий смысл». Естественно, что и человек вообще сводится к его «субъективности», то есть к самодостаточной и противопоставленной миру единичности. Вернее, именно это представление о человеке как противопоставленной всему миру субъективности и обусловило переориентацию герменевтики в сторону понимания некоего не связанного ни с реальным автором текста, ни с его реальным читателем «общего смысла» или «истины». «Поскольку речь идет теперь не об индивидуальности и ее мнениях, но о фактической истине, – пишет Гадамер, – постольку и текст предстает не как простое жизненное проявление, но воспринимается всерьез в его притязании на истину»13.
Таким образом, для понимания истины необходимо преодолеть «человеческое, слишком человеческое» (Ницше). Но это направление мысли одновременно связано с философией скептицизма и гегелевским идеализмом. Естественно поэтому, что и язык, по Гадамеру, «вариативен, поскольку представляет человеку различные возможности для высказывания одного и того же»14, а «речь (Sprechen) сама причастна к чистой идеальности смысла, возвещающего в ней о себе. В письменности, – убеждает современный философ, – этот смысл сказанного в устной речи (das Gesprach) существует в чистом виде и для себя, освобожденный от всех эмоциональных моментов выражения и сообщения. Текст хочет быть понятым не как жизненное проявление (Lebensausdruck), но в том, что он говорит. Письменность есть абстрактная идеальность языка»15. Итак, Гадамеру в тексте важнее всего лишенное всяких эмоций «то, что он говорит».
Однако то, что говорит текст, невозможно понять вне того, как это сказано. Последнее касается не только поэтической речи, где единство «плана выражения» и «плана содержания» особенно явно16, но касается это и вообще языка как такового. Потому понимание текста не сводится к вышелушиванию из него очищенного от эмоций и для себя существующего «понятия» или (что у Гадамера идентично «понятию») «смысла». Смысл того или иного текста воспринимается не только рассудком, но и чувством. То, что говорится, и то, как говорится, одновременно апеллирует к рассудку и чувству читателя, или, точнее, – текст в его идейно- стилистическом единстве воспринимается человеком в его рационально-чувственном единстве, и даже в единстве его сознания и подсознания.
Потому сплошь и рядом наше непосредственное понимание художественного произведения может быть и глубже, и истиннее целого литературоведческого исследования, этому произведению посвященного, особенно если последнее ставит своей целью выявить лишенную всякой эмоциональности «идею» или «композицию» или, наконец, описать «языковые средства» этого произведения. Мы можем понимать только одновременно умом и сердцем. И наш отклик на прекрасное стихотворение – это то движение души, когда мы ощущаем стихотворение выражением своего сокровенного мира, ощущаем самих себя как бы автором любимых строк. Произошло понимание как самораскрытие до уровня надындивидуального, до уровня тождества читателя и поэта, а вместе с тем тождества человека и мира. Словом, нашему непосредственному пониманию художественной литературы прежде всего свойственна дивинация.
И здесь не может идти речь о том, что каждый понимает одно и то же произведение словесного творчества абсолютно по-разному. Признание того, что одно и то же произведение можно понимать совершенно по-разному, возвращает нас к концепции человека как замкнутой в себе имманентной самодостаточности, не связанной, а лишь внешне соприкасающейся с другими людьми и миром. Но тогда никакое понимание чего бы то ни было принципиально невозможно. Ведь в самом общем смысле понимание есть переживание человеком своего сокровенного единства с другими людьми и всем миром.
Но ведь нельзя думать и так, что все люди одно и то же произведение словесного творчества понимают абсолютно одинаково. Такой взгляд нивелировал бы человеческую личность, превратил бы живого человека в нечто роботоподобное, и даже был бы не просто неверен, но и социально опасен. Все дело в том, что любой факт нашей жизни (как и любое слово в языке) – контекстуален. Наша встреча со стихотворением, о котором идет речь, есть факт нашей жизни, вписывающийся в контекст всего пережитого и переживаемого нами, и этот факт нашей жизни не может быть нами понят вне всего нашего жизненного контекста, как и вне нашего мировоззрения и врожденных или сложившихся особенностей нашего восприятия.
Таким образом, неверно говорить об абсолютно едином для всех понимании произведения точно так же, как неверно говорить и об абсолютно разном его понимании каждым отдельным человеком. Но из этого следует лишь то, что сама абсолютность в наших рассуждениях – величина неприемлемая: она есть указание предела развития, исчерпанности смысла произведения, остановки жизни. А ведь сам смысл нашего стихотворения не внечеловечен (как считал Гадамер), и само стихотворение – не какой-нибудь куб, в углу которого скрывается его смысл. Смысл стихотворения личностей: он дан автором и воспринят читателем. Причем и автор, и читатель оказываются далеко не наедине: между ними и в них – язык, сам по себе соединяющий индивидуальное с общенациональным и через него со всечеловеческим, и все это – на волне динамически развивающейся жизни. Смысл стихотворения личностей, но сама личность человека неповторимо всемирна, потому и определенность смысла стихотворения подвержена бесконечному развитию, нисколько не теряя этой своей определенности.
Наше непосредственное – гипотетически дивинативное – понимание стихотворения обращает нас к основанию личности автора и к глубинным пластам собственной личности, и это проникновение в сущность текста есть одновременно и наше познание взаимосвязи человека и мира в том его измерении и в том его аспекте, который задан художественным произведением. Однако степень этого проникновения может быть разной и, во всяком случае, – поскольку процесс понимания несводим к статике абсолюта – всегда есть возможность понять что-либо глубже и в иных ассоциативных связях. Филологический анализ поэтической речи и призван обнаружить некую характерную определенность смысла того или иного произведения или путь его герменевтически обоснованного прочтения, которым вдумчивый читатель может воспользоваться. Конечные выводы будут, разумеется, за ним. Но чем тоньше искусство анализа и чем глубже этот анализ соотнесен с непосредственным чувством, которое рождает произведение искусства у филолога, тем глубже его сотворчество одновременно с художником и читателем и тем шире, благодаря его работе, становится сфера воздействия искусства, преображающая нашу повседневность на основе высших человеческих ценностей.
Гадамер считал, что понимание текста ведет к пониманию истины, минуя всякую «субъективность» автора этого текста. Но ведь если и можно как-то условно вывести из поля зрения личность автора текста, то уж никак нельзя не учесть личность того, кто этот текст читает и интерпретирует. Признав за человеком статус замкнутого в себе и противопоставленного всему миру субъекта, мы и любую интерпретацию текста должны признать абсолютно субъективной и необязательной, речь же об объективной истине в этом контексте вестись и вовсе не может. Между тем анализ текста производится как раз во имя истины, иначе он просто бессмыслен. Объективность филологического анализа, следовательно, полагает своей основой именно романтическую герменевтику, признающую подлинную и глубокую связь между людьми, которая реализуется в языке вообще и в поэтической речи в частности.
Показательно, что именно на этой романтической герменевтике и на диалектической философии вообще основалось и отчасти получило свое развитие отечественное стиховедение. Речь идет о стиховедческой концепции Андрея Белого, чьи работы в этой области филологии, начатые еще в первом десятилетии века, завершились «Ритмом как диалектикой» (1929)17 и серией лекций и докладов, прочитанных им в различных научных обществах. Нужно сказать, что здесь было бы некорректно утверждать прямую зависимость А. Белого от герменевтики Шлейермахера, но тем важнее для нас констатировать общеметодологическое родство обеих теорий, основанное на диалектической концепции мира.
Для А. Белого – как и для немецких романтиков – важнее всего не существование отдельных вещей, а всеобщая связь вещей и явлений, в том числе и связь личности со всеми людьми и мирозданием18. В самой же человеческой жизни важнейшим фактором бытия личности оказывается опять же безусловная связь разума и чувства, сознания и «бессознания». Все это и определяет характер поэтического творчества. В своем курсе лекций «Теория художественного слова» А. Белый говорил: «Факт: плановая работа бессознания; оно, бытие, определяющее сознание (сюжет, смысл, тенденции); в бытие, определяющее само досознание «Я» поэта – «Мы» – коллектива. Поэт – рупор коллектива»19.
«Плановая работа бессознания…» – противоречие? «Разумная неразумность»? Но именно стиховедческие труды Белого привели его к мысли о неслучайности и совершенной разумности строения поэтической речи в тех ее аспектах, которые явно находятся за гранью сознания автора и за гранью сознания читателя, но, тем не менее, составляют саму суть поэзии. Собственно говоря, и любое стиховедение, даже если оно не решается перебросить прямой мостик от звука к смыслу, все равно имеет в виду взаимосвязь «формы и содержания» – иначе к чему все эти описания метрических и всяких иных структур? Но для А. Белого «плановая работа бессознания» не только «определяет сознание», но – что не менее важно – является не чем иным, как «Мы» – коллектива». Иначе говоря, углубление поэта в свое бессознательное есть одновременно его углубление в стихию надындивидуального, которое выражается не только в поэтической речи, но и вообще в языке как таковом, «в самой стихии язычности, описуемой и поддающейся анализу в принципе»20. Основываясь на Гумбольдте и Потебне, А. Белый говорит об их нерешительности в отождествлении «художественного творчества с творчеством языка»21 и так определяет «два условия возможности «теории слова»: «1) наблюдающий психолог речи есть художник; 2) художник-психолог есть наблюдающий точно, т. е. он одновременно есть ученый. Условия возможности теории слова суть здесь всегда: условия возможности художественного слова; и во-вторых, условия возможности теории только в совпадении в теоретике художника и ученого»22.
Разумеется, последнее утверждение – не столько из области теоретической филологии, сколько из области литературной борьбы А. Белого с позитивистски ориентированным русским формализмом 20-х годов. Утверждение это неверно и по существу: если, как утверждает А. Белый, творчество языка есть, по сути, художественное творчество, то не только автор стихотворения, но и его читатель – по крайней мере в момент восприятия написанного – причастен к этому художественному творчеству, что, конечно же, дает ему право размышлять над теорией слова вообще и теорией художественного слова в частности.
Но важнее всей этой противоречивости здесь другое: важнее всего то, что для А. Белого художественное творчество, наиболее полно воплощающее в себе сознание и «бессознание» человека, дает ему верный ключ к истинному познанию мира, то, что в эпоху расцвета сциентизма Андрей Белый решительно настаивал на приоритете художественного познания мира. Именно в этом ключе и следует рассматривать все его стиховедческие работы.
«Содержание поэтической жизни, – писал А. Белый в наброске статьи «Ритм и смысл», – жизнь образом: слово – образ поэзии; мифология его породила; а история философии есть рождение понятий из образов мысли; в современности слово разбито: на образ и термин.
Но эти две половинки разбитого слова убиты в отдельности; и – неслиянны в единстве; смерть души слова – в термине; и смерть плоти его – в раскричавшейся ныне материи футуристических звуков, желающих свергнуть смысл; глоссализм и логизм, уничтожая себя, уничтожают друг друга; двоякое пожирание смысла в пределах понятий звуков ведет к угасанию ритма давно.
И ритмический смысл, и осмысленный ритм – кажутся невероятными парадоксами для поэтик и логик.
Жест ритмической линии в специальном анализе доказывает обратное: есть ритмический смысл, есть осмысленный ритм; указывает он на то, что какая-то область доселе не вскрыта нам в слове; и есть Слово в слове, соединяющее ритм и смысл в нераздельность; и рассудочный смысл, поэтический ритм лишь проекции какого-то нераскрытого ритмосмысла»23.
Таким образом, язык для А. Белого есть не только «непосредственная действительность мысли», но в той же мере и непосредственная действительность чувства, в нем объективируется не только сознание, но и «бессознание». Потому слово по его природе есть синтез всех духовных начал жизни. Превращение же его то ли в однозначный логический термин, то ли в самодельный живописный или звуковой образ есть смерть этого слова. Все было бы, конечно, так, если бы слово как таковое могло быть сведено то ли к абсолютной рассудочности, то ли к абсолютной чувственности. Но дело в том, что ни рассудочности, ни чувственности в их абсолютной противопоставленности друг другу просто не существует, и потому слово как единство сознания и «бессознания» принципиально неуничтожимо. Можно говорить лишь о тенденции к этому уничтожению в логике и у стихотворцев-экспериментаторов, но пристальный анализ логического текста всегда способен обнаружить скрытую в нем авторскую эмоцию, не говоря уже о том, что стихотворные опыты, в которых звук или цвет приобретают самодовлеющее значение, ближе всего связаны не с чувствами, а именно с рассудочной деятельностью их авторов.
Однако существует ли «Слово в слове», проектирующее себя в сферы рассудочного смысла и поэтического ритма, и может ли оно быть определено как «ритмосмысл»? Для А. Белого это «Слово в слове» есть явление «чистого смысла» в нашем языке и в нашей духовной жизни. Но «что есть чистый смысл?». «Обыкновенно мы думаем, – отвечает на этот им же самим поставленный вопрос Андрей Белый, – чистый смысл есть понятие; и вот нет понимания – превращение слов в номенклатуру понятий. Идеал же понятия – невообразимая, внеобычная значимость; отношение математических величин. И понятия логики – средства для построения Бессодержательных формул, имеющих технический смысл.
Мышление в средствах рассудка – не имеет самостоятельной значимости, потому что рассудочный смысл определяется приложением смыслового понятия к кругу данного опыта…»24.
Это антигегелевское рассуждение А. Белого представляется вполне убедительным. В самом деле, предел нашей рассудочной деятельности – чистая логика, но сама по себе логика лишь предполагает определенное мировоззрение, сущность которого самой по себе логикой не исчерпывается. Это касается, в частности, и знаменитой логики Гегеля, проистекавшей из вполне скептического мироощущения.
Итак, «чистый смысл» не есть понятие. Что же? А. Белый пишет: «Он – ритм теченья понятийных смыслов; живой организм (неразборчиво – С.Б.). Он – живая динамика, ритм; он – внеобразен, внедушевен, неуловим, переменен и целен. И мысль, взятая в нем, – глубина, подстилающая обычную мысль; чистый смысл постигается в вулканической мысли, в пульсации ритма, выкидывающего (в подлиннике: выкидывающий – С.Б.) нам поток расплавленных образов на берег сознания. Область чистого смысла – в пределах иного сознания, могущего отпечатлеться на гранях сознания нашего – ритмом; и – только.
Обратно: уразуменение ритма поэзии утверждает его как проекцию чистого смысла на образном слове; ритм поэзии – жест ее Лика, а Лик – это смысл.
Чистый ритм, чистый смысл – вот пределы, в которые опирается осознание образных и рассудочных истин; откровенье внеобразной, внерассудочной истины и жестикуляции ритма лежит за пределами всех учений о слове и всех учений о смысле; разрешенье вопроса о смысле и ритме – в вопросе: передвигаемы ли границы сознания»25.
Итак, «Слово в слове», «Лик» поэзии есть «чистый смысл» или «живая динамика, ритм». Ритм поэзии – «жест» этого «Слова», «Лика», «чистого смысла», «живой динамики, ритма».
Но ведь и в самом деле, диалектическое понимание мира опирается на образ живого организма, данного в постоянном динамическом развитии. И развитие это не лишено смысла хотя бы потому, что каждый человек живет ощущением смысла собственного существования и существования всего того, что его окружает. Когда мы говорим, что что-либо не имеет смысла, или даже что сама жизнь потеряла для нас смысл, мы этим лишь констатируем нарушение гармонии в наших взаимоотношениях с окружающим, и, если это нарушение гармонии достигает предела, человек духовно, а затем и физически гибнет, точно так же, как он гибнет без воды и без воздуха. Ощущение смысла есть необходимое условие существования человека. Но поскольку человек не является самодостаточной и отчужденной от мира ипостасью, а является его частью и средоточием, то это главнейшее условия своего собственного существования – ощущение смысла жизни – он не вправе считать чем-то сугубо субъективным, произвольным или случайным, а должен признать и наличие смысла жизни у окружающих его людей, природы и всего мира. Причем это именно внутреннее ощущение наличия смысла, а не рационально выводимое из тех или иных предпосылок понятие смысла. Рационально мы можем лишь констатировать его наличие, а всем своим существом – переживать его как данность нашего бытия.
Нельзя не согласиться с А. Белым и в постановке вопроса о том, передвигаемы ли границы сознания, как и с его ответом на этот вопрос: да, передвигаемы, и, в частности, смысл стиховедческого анализа поэтической речи заключен именно «в опыте передвиженья сознания»26. Хотя распространение сферы сознания на всю без остатка жизнь человека и невозможно, да и не нужно, но ее расширение есть одновременно углубление понимания поэтической речи, а вместе с тем и нашего понимания жизни вообще.
Следует, однако, весьма осторожно отнестись к употребляемому А. Белым термину «чистый смысл». Думаю, его можно и должно принять исключительно в качестве обозначения смысла жизни вообще, данного нам в нашем непосредственном переживании сущности мира. Расширение сферы сознания, то есть процесс осознания действительности, есть, вместе с тем, и процесс «поиска смысла жизни», то есть осмысление действительности. Причем процесс этот столь же личностен, сколь и надындивидуален; «чистый смысл» поэтому находится не где-то за гранью человеческой личности и обозначает он вовсе не какую-то на новый лад понятую гегелевскую «Абсолютную Идею», отстраняющую человека с дороги познания. Напротив, «чистый смысл» есть момент тождества индивидуального и всеобщего, это – момент Истины, дающийся нам в самоуглублении и преодолении всего свойственного нам внешнего, поверхностного и субъективно-случайного. Потому ощущение «чистого смысла» и расширение на этой основе сферы нашего сознания есть одновременно и процесс становления нашей личности: осмысление всегда нравственно.
Разумеется, кроме категории «чистого смысла», мы должны видеть и смысл какого-либо явления или (поскольку у нас сейчас речь идет о поэтической речи) поэмы, стихотворения, элемента этого стихотворения и т. д. Но ведь ничто единичное не является замкнутой самодостаточностью, и потому, как говорит А. Белый, существует и «Слово в слове», и «Лик поэзии» (то есть ее смысл) проявляется в любом элементе поэтической речи. Познание сути стихотворения или поэмы – в осмыслении соотношения в нем индивидуального и всеобщего. Именно характер этого соотношения составляет неповторимость произведения искусства. И сквозь эту неповторимость всегда явлен «чистый смысл» – Истина, связующая автора и читателя со всем миром в едином переживании его движения и гармонии.
Поэтическая речь есть концентрация смысла в духовном опыте человечества. Строка хорошего стихотворения по смысловой насыщенности стоит абзаца хорошей прозы. И причина здесь в том, что отличает поэзию от прозы, то есть в смыслообразующей музыкальности поэтической речи. Не зря А. Белый, говоря о «чистом смысле», постоянно говорит и о ритме. Вспомним: «уразумение ритма поэзии утверждает его как проекцию чистого смысла на образном слове; ритм поэзии – жест «ее Лика, а Лик – это смысл». Поэтому и возникает у Белого понятие «ритмосмысла». «Ритм» в словоупотреблении А. Белого – это живое движение смысла, сама динамика бытия универсума, наиболее явно проявляющаяся в музыке и поэтическом творчестве. И со всем этим следовало бы согласиться, если бы «ритм» все же не был здесь, как верно заметил М. Л. Гаспаров, «расплывчато-многозначным»27 и не сводился бы весь без остатка к движущему поэтом «духу музыки» или «чистому смыслу». Слишком общее значение «ритма» затрудняет применение этого термина в конкретном анализе стиха, а между тем без него обойтись невозможно, и в другом месте я пытался дать анализ термина «ритм» в связи с его воплощением в поэтической речи28.
Главная же заслуга стиховедческих работ А. Белого – в их диалектической основе, в выраженном в них четком представлении о проявлении в каждом элементе поэтической речи и в связи этих элементов между собой живым движением смысла, смысла, доступного нашему непосредственному восприятию и требующего от нас своего осознания, которое ведет к дивинации – высшей степени понимания как сотворчества читателя и автора и как проникновения в сущность окружающего нас мира.
Верная мысль М. Л. Гаспарова: «из «Символизма» Белого выросло все сегодняшнее русское стиховедение, хотя при этом отпали все дорогие ему «ритмические фигуры»; очень может быть, что из «Ритма как диалектики» вырастает стиховедение завтрашнего дня, хотя при этом отпадут все дорогие Белому «ритмические жесты»29. Впрочем, не будем судить о том, что впоследствии отпадет и что сохранится в теории Андрея Белого. Будем благодарны ему за то, что в этой теории буйно зеленеет древо жизни и начисто отсутствует мертвенная сухость «схемостроительства» и «системоверия» его позитивистски настроенных оппонентов.
Естественно, что теория Андрея Белого, крайне заостренная против стиховедческих работ ориентированного на русскую формальную школу В. М. Жирмунского, встретила в среде новых стиховедов жесткое отторжение30. Наступала эпоха, когда исследование стиха, непосредственно выводящее на его глубинный смысл, не могло быть востребовано как со стороны обретающей силу коммунистической идеологии, так и со стороны филологической науки, надеявшейся существовать вне зависимости от этой идеологии. Ориентация на естественные науки, прежде всего на математику и статистику, казалось, предоставляла возможность всеобщего компромисса (хотя и несколько подозрительного со стороны идеологов, компромиссов не любивших).
В основу этого невозможного компромисса лжи и истины была положена лингвистическая теория позитивизма. Сейчас не время и не место анализировать знаменитый дихотомический принцип в отношении к языку у Ф. де Соссюра, но следует отметить его сильное влияние на процесс формализации литературоведения в советский период. Художественные произведения, жанры и стили засуществовали как- то независимо от их творцов, творцы же эти интересовали филологов преимущественно той или иной их социально-политической ангажированностью. Никакая математика не могла оградить читающую публику от филологического волюнтаризма. «Объективность» как внеличностность вполне допускала произвол. Филологическая полемика сплошь и рядом камуфлировала выявление политических позиций филологов. Авторы же анализируемых произведений, по сути, отодвигались в сторону, и имена их в статьях и книгах мелькали как козырные карты в ожесточенной игре.
Тенденция эта могла проистекать исключительно из подспудной убежденности в том, что объективное прочтение и понимание текста читателем, то есть субъектом, все равно невозможно, всяк понимает все по-своему, и для убеждения в своих искренних (или, напротив, далеко не искренних) взглядах необходимо создать некую иллюзию объективности филологического анализа в качестве полезного аргумента. Философская основа всей этой трагической вакханалии, таким образом, задана не чем иным, как скептицизмом и той самой явившейся за ним «эрой подозрительности», о которой говорил М. М. Бахтин.
Но наряду с описанной тенденцией в отечественном литературоведении существовала все же тенденция, основанная на принципе доверия и сознании возможности истинного понимания художественного текста. В противовес активной и талантливой деятельности русских формалистов, еще в 20-е годы появляются работы, прямо ориентированные на традиции диалектической филологии, связанные с именами В. Гумбольдта и А. Потебни, среди которых и книга по теории стиха Б. Навроцкого, и первые работы А. Чичерина, столь плодотворно работавшего до середины 80- х годов31. «А. В. Чичерин, – как справедливо замечает М. Я. Гольберг, – углубил и расширил учение А. А. Потебни о внутренней форме слова. Он рассматривал ее как смысловую категорию…». И если это так, то совершенно естественно, что с точки зрения ученого, «каждая клеточка художественного произведения, каждая, говоря его словами, «стилистическая молекула» отражает характерное для писателя мировоззрение, а вместе с тем связана со сложным, богатым, динамичным миром культуры…»32.
Рассматривая и оценивая работы А. В. Чичерина, М. Я. Гольберг сразу же вскрывает сущность их мировоззренческой ориентации. Ученый совершенно справедливо связывает их с принципом «вчувствования» В. Дильтея, а через него, надо полагать, с дивинацией как принципом романтической герменевтики, и противополагает их принципу отстраненности исследователя от предмета своего исследования33, обозначенного М. М. Бахтиным как «вненаходимость». Не менее справедливо противополагает М. Я. Гольберг литературоведческую концепцию А. В. Чичерина и вообще русской формальной школе, замечая, однако, что «при всех существенных различиях оба направления не столько исключают, сколько дополняют друг друга»34.
Стремление связать противоположные тенденции в развитии филологии понятно: русская формальная школа приобрела мировую известность, и вроде бы не нам отказываться от ее наследства. Но вот вопрос, как возможен здесь принцип взаимной дополнительности: ведь оба явления базируются на взаимно исключающих друг друга основаниях, а именно, на скептицизме и диалектике. Да и сама диалектика с ее принципом тождества противоположностей бессильна объединить необъединимое: для того, чтобы к необходимости такого объединения прийти, уже нужно диалектически мыслить, а значит, и в сути разногласий занять позицию, прямо противоположную любым проявлениям скептицизма.
Определяя главную тему научного творчества А. В. Чичерина в установлении «внутренних связей отдельных писателей, создающих органическое единство и историческую цельность русской литературы»35, П. Е. Бухаркин, по сути, определяет и мировоззренческую генеалогию замечательного ученого. Это, безусловно, диалектика романтизма. С принципами романтизма связан и тот исключительный по своей глубине и эстетической значимости синтез научного и художественного мышления, который проявился в непревзойденном стиле его филологических трудов. Когда мы читаем у А. В. Чичерина, скажем, о «Войне и мире», мы невольно ощущаем воздействие на нас не только логики автора статьи, но и воздействие созданной им особой образной структуры: перед нами одновременно и образ Толстого, и образ «Войны и мира», и образы образов романа-эпопеи! Работы А. В. Чичерина о художественной литературе не подменяют в нашем сознании художественность на рациональную номинативность самодовлеющего анализа, напротив, воздействуя одновременно на разум и чувство их читателя, они приводят к подлинному пониманию и творчества писателя, и художественного творчества как такового, и, что важнее всего, приводят к подлинному пониманию того, что стоит за всяким творчеством вообще, – к пониманию основ человеческой жизни. Творчество А. В. Чичерина свидетельствует, что литературоведение в лучших своих образцах есть тот жанр словесности, который прямо обращен к пониманию мира внутри нас и мира, нас окружающего.
Значит ли это, однако, что, определяя литературоведение как литературный жанр, мы лишаем его характера собственно научной точности и объективности?
Но ведь точность науки есть точность описания различных явлений мира, то есть выверенность их номинации в той или иной умозрительно созданной схеме, которая соотносится с нашим внешним опытом. Здесь слово стремится стать термином, термин же стремится к никогда не достижимой своей однозначности. Во всем этом нет и не может быть объяснения того или иного жизненного факта, поскольку объяснение требует проникновения в первопричину явлений мира, а следовательно, требует обнаружения внутренней связи сущности этого явления с множеством других фактов жизни. Здесь слово стремится стать символом, заключающим в себе, прежде всего, принцип связи, а уж затем предметную номинацию36.
В отличие от рассудочного и всегда ломкого в своей неподвижности термина, символ чувственно-рационален и при всей своей подвижности и никак не скрываемой полисемии прочен; он отличается от термина, как живое и гибкое дерево – от дерева высохшего.
Потому научно-терминологическая «точность» всегда узко специальна, т. е. вне- связна, и всегда мимолетна: новое слово в науке опровергает предшествующее, и процесс этот бесконечен37. Философская или художественно-символическая «точность» – безусловна, она не отменяет предшествующего, но углубляет его. В своей семантической подвижности слово, обращенное ко всему духовному средоточию человека (а не к исключительно некоему вымышленному его сугубо рациональному отсеку), не сводится к собственной предметной самодостаточности, а открывает нашему пониманию реальность, стоящую за словом, во всей живой ее сложности, противоречивости и единстве. Можно ли точнее определить, скажем, художественное своеобразие писателя, чем оно определено у А. В. Чичерина в его простой фразе: «прозрачность прозы Тургенева»? Разумеется, для того, чтобы ощутить точность этого выражения, нужно читать Тургенева и размышлять о прочитанном, и существует оно не само по себе, а в контексте всей работы филолога. Это не описательная точность, а точность проникновения в суть вещей, точность, напрямую продуцирующая внутреннюю связь «Я» читателя с художественным творчеством Тургенева и одновременно с духовным миром его исследователя.
Словом, научная точность, если понимать ее как точность в системе научноописательного метода исследования художественного текста, вовсе не является критерием истинности, ибо она насквозь отвлеченно необязательна, и, напротив, точность диалектического анализа художественного текста, устанавливающая внутреннюю связь рассматриваемого явления с его сущностью и воздействующая одновременно на ум и чувство читателя, ведет к истинному познанию текста, т. е. к глубокому ощущению момента тождества познающего и познаваемого. Литературоведение, рассматриваемое как литературный жанр, следовательно, ни в коей мере не обедняет познание художественной литературы, напротив, углубляет его до степени самопознания человека и познания окружающего его мира.
То же можно сказать и относительно принципа научной объективности. Если видеть в науке доминирующий принцип рациональной описательности того или иного явления, то объективность анализа увеличивается по мере убывания в нем личностно-субъективного начала. Иными словами, чем меньше выявлена в литературоведческом исследовании личность исследователя, тем оно лучше. Понятно, что в данном случае под «субъективностью» понимается произвольность или волюнтаризм литературоведа в отношении к материалу его исследования.
Но ведь субъективность эта должна пониматься и как неизбежность: если субъект жестко противопоставлен объекту, то его деятельность окажется всегда субъективной по определению, поскольку субъективным будет само его восприятие, хоть литературного текста, хоть снабженной статистическими выкладками статьи об этом литературном тексте. Любой разговор на этом фоне о произвольности или волюнтаризме просто бессмыслен. Если же в субъект-объектных отношениях признается связь обоих компонентов, то теряет смысл стремление к «объективности» как к всецелой принадлежности объекту, и «объективность» должна пониматься как истинность.
Таким образом, смысл приобретает лишь тот подход, который основывается на принципе связи, в том числе и внутренней связи исследователя, предмета исследования и читателя. Но если это так, то произвол и волюнтаризм в филологическом исследовании произрастают не из безусловного факта существования самого исследователя, а из неспособности этого исследователя обнаружить и осознать, по слову Флоренского, «всесвязность»38 языковых, литературных или жизненных фактов.
Любопытно, что линия развития филологии, генетически связанная с русской формальной школой и через нее с позитивистской лингвистикой и претендующая на точность и объективность научно-описательной методологии, вполне серьезно отстаивает необязательность взаимосвязи всех компонентов текста. Так, стиховед Б. П. Гончаров пишет: «Академик В. В. Виноградов с сочувствием цитировал слова Ф. де Соссюра из «Курса общей лингвистики»: «Не существует языков, где нет ничего мотивированного; но немыслимо себе представить и такой язык, где мотивировано было бы все». И в художественной речи, – заключает Б. П. Гончаров, – мы имеем дело со случайностями языкового (в том числе фонетического и ритмического) порядка»39.
Можно было бы привести обширный список свидетельств поэтов и писателей, опровергающих этот взгляд. Но и оставив этот список в стороне, нелишне нам задать вопрос: как же быть с научной точностью и объективностью литературоведческого анализа, если те или иные элементы текста могут быть признаны случайными одним исследователем, а иные – другим? Рациональная схематизация неизбежно сопровождается отвлечением от реальности текста и постулированием условности и приблизительности в качестве основания любых научных выводов.
Потому и отмеченная М. М. Бахтиным «паспортизация» текстов, то есть принцип стремящегося к объективности научного описательства, который свидетельствует о захлестнувшей нас «эре подозрения», должен все же уступить принципу понимания текстов, основанному на доверии исследователя и к тексту, и к его автору, и к читателю, и к миру, и к самому себе.
Примечания
1 Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. – 2-ое изд. – М., 1986. – С. 297.
2 Руткевич А. Мятежный век одной теории // Новый мир. – 1990. – № 1. – С. 260.
3 Васильев С. А. Синтез смысла при создании и понимании текста. – К., 1988. – С. 8.
4 Там же. – С. 8–9.
5 Там же. – С. 8.
6 Рахитов А. И. Опыт реконструкции концепции понимания Фридриха Шлейермахера// Историко- философский ежегодник. – М., 1988. – С. 159.
7 Там же.-С. 158.
8 Там же.-С. 158–159.
9 Гадамер Х.-Г Истина и метод. Основы философской герменевтики. – М, 1988. – С. 237.
10 Флоренский П.А. – М., 1990. – Т. 2. У водоразделов мысли. – С. 130.
11 Цит. по: Гадамер X-Г Указ. соч. – С. 233.
12 Там же. – С. 346.
13 Там же-С. 351.
14 Там же.-С. 515.
15 Там же. – С. 456.
16 Там же. – С. 235.
17 См.: Белый А. Ритм как диалектика и «Медный всадник». Исследование. – М., 1929. Наиболее обстоятельная работа, посвященная этой книге, принадлежит М. Л. Гаспарову. См.: Андрей Белый. Проблемы творчества. Статьи. Воспоминания. Публикации. – М., 1988. – С. 444–460.
18 Ср., например: Шеллинг Ф. В. И. Сочинения: В 2-х т. – М., 1989. – Т. 2. – С. 37.
19 ИРЛИ. Ф. 53, он. 1, ед. хр. 87, л. 19 об.
20 Там же – Л. 24.
21 Там же.
22 Там же.-Л. 12.
23 ИРЛИ. Ф. 53, он. 1, ед. хр. 84, л. 14–15.
24 Там же – Л. 12.
25 Там же.-Л. 13–14.
26 Там же – Л. 15.
27 Гаспаров М. Л. Белый-стиховед и Белый-стихотворец // Андрей Белый. Проблемы творчества. – С. 447.
28 См.: Бураго С. Б. Музыка поэтической речи. – К., 1986. – С. 20–29.
29 Гаспаров М. Л. Указ. соч. – С. 460.
30 Жирмунский В.М. Теория стиха. – Л., 1975. – С. 32–39.
31 Навроцъкий Б. Мова та поезія. Нарис з теорії поезії. – К., 1925; Чичерин А. В. Литература как искусство слова. Очерк теории литературы. – М., 1927.
32 Гольберг М.Я. Текст и его интерпретатор (о литературоведческой концепции А. В. Чичерина) // Вопросы русской литературы. – Львов, 1990. – Вып. 2 (56). -С. 106–107.
33 Там же.-С. 104.
34 Там же.-С. НО.
35 Бухаркин П. Е. Об Алексее Владимировиче Чичерине и его трудах // Русская литература. – 1990. – № 4. – С. 165.
36 Ср.: Флоренский П.А. Т. 2. У водоразделов мысли. – С. 125–127, 200–228.
37 Рассел Б. Почему я не христианин. – М., 1987. – С. 135–136.
38 Флоренский П.А. Т. 2. У водоразделов мысли. – С. 125.
39 Гончаров Б.П. Анализ поэтического произведения. – М., 1987. – С. 6.