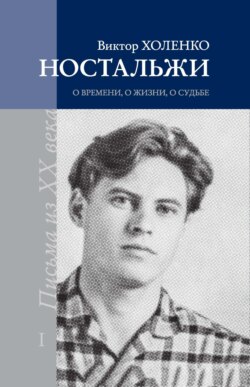Читать книгу Ностальжи. О времени, о жизни, о судьбе. Том I - Виктор Холенко - Страница 5
Часть первая
Любая дорога начинается с первого шага…
Письмо первое
Корни рода моего
2
Оглавление«Есть на Севере заветный городок…»
Эта песня из давних советских времён, и особенно популярна она была ещё, наверное, в 30-е годы прошлого века. Её пели все: и школьники, и крестьянская молодёжь, рабочие, интеллигенция. Это было время бурных строек: возводились новые города в неосвоенной до той поры Сибири и на Дальнем Востоке, строились заводы, электростанции, шахты, осваивался Северный морской путь. Потом она так же гармонично вошла и в военные 40-е годы, и зимой 1944 мы, первоклашки маленькой сельской школы, разучивали эту песню на уроках пения вместе с новым Гимном Советского Союза, который начинался словами: «Союз нерушимый республик свободных…» Если бы кто-нибудь тогда сказал, что не пройдёт и пятидесяти лет, рассыплется этот союз на полтора десятка осколков, как драгоценная ваза, неосторожно уроненная её хозяином на холодную брусчатку Красной площади, что заживут эти, тоже якобы свободные, в том числе и друг от друга, республики-осколки самостоятельной жизнью, а их народы потом будут десятилетиями мучительно искать пути к сближению, – честное слово, если бы кто тогда, в 44-м, даже одним словом намекнул, что нечто подобное может произойти, его в лучшем случае приняли бы просто за сумасшедшего. Да и не могло быть иначе: шла к завершению Великая Отечественная война, позади были одержанные громкие победы всенародно любимой армии под Москвой, в Сталинграде, на Курской Дуге. А прямо накануне этих так запомнившихся мне уроков пения к нам на далёкую Камчатку дошла ещё одна радостная весть: наконец-то была прорвана блокада героического Ленинграда.
Это сообщение вызвало в школе особое ликование: дело в том, что в нашем классе училась девочка, которую ещё в 42-м году вывезли по ледовой «Дороге жизни» из этого легендарного города и привезли на Камчатку, где на морской береговой батарее служил её отец. Эта батарея морских дальнобойных пушек была искусно замаскирована в скалах недалеко от нашего села, и даже во время учебных стрельб нельзя было определить её местонахождение хотя бы по рассеянным дымкам от сгоревшего пороха: только гулкий удар выстрела и следом за ним высоко в небе характерный ноющий звук тяжёлого снаряда, летевшего через наше село на полигон, расположенный километрах в десяти на береговых террасах бухты Саранной. В эти обильные ягодные места мы, пацаны, обычно бегали за голубикой, жутко вкусной жимолостью, брусникой и шикшей в пору их созревания в августе и сентябре, и если в такие дни выпадали стрельбы, то непременно натыкались на матросов из оцепления, которые нас не пускали, конечно, в самые злачные, по нашему мнению, места, потому что именно туда падали болванки учебных снарядов.
С этой девочкой мы сидели за одной партой. Звали её Валей. Она была старше меня примерно на год, видимо, уже ходила в школу там, в Ленинграде, но во время блокады учёбу пришлось прервать. Ещё она отличалась какой-то нездоровой полнотой и такой же неестественной желтизной припухшего округлого лица – очевидно, результат блокадного голода. Несколько раз всего я видел её отца – подтянутого немногословного морского офицера с четырьмя маленькими звёздочками на погонах. Говорили, что он командир этой самой 77-й береговой батареи. Матери её я никогда не видел и сейчас даже думаю, что её или уже не было в живых, или она, может быть, находилась где-то на излечении.
Фамилия у Вали, помню, была Зверева, жила она на квартире самых старых жителей села и в самом старом, но очень добротном, богатом по тем временам доме под крышей из волнистого оцинкованного железа. Хозяином дома был щуплый добрый старичок Филиппыч, который, несмотря на преклонный возраст, всё ещё работал колхозным конюхом, и с ним дружила, пожалуй, вся деревенская детвора. И всё же истинной хозяйкой дома была высокая сухощавая старуха с жёстким взглядом каких-то особенно пронзительных глаз и с плотно сжатыми тонкими губами, с седоватой опушкой над ними. По имени её в селе никто не называл, а только уважительно по отчеству – Ивановна. Её побаивались все: и детвора, и взрослые, и, конечно же, сам Филиппыч. Многие считали её даже колдуньей, но в трудную минуту люди нередко обращались именно к ней за помощью – кто денег занять, а кто просто за каким-то житейским советом. Родственников у них в селе не было, никто и никогда к ним не приезжал даже из ближних сёл, и о прошлом этих стариков никто ничего не знал толком. Помнится, сразу после войны эти старики как-то неожиданно исчезли из села: продали дом и уехали. Куда? И снова никто не знал: в городе Петропавловске их никто из односельчан не встречал, иногда доходили слухи, что они в одну из летних навигаций уехали на материк, а дальше их след вообще затерялся. До сих пор для меня судьба этих двух стариков остаётся загадкой, даже фамилию их я никогда не слышал от взрослых, поэтому так и не узнал тогда. В те годы я, конечно, не особенно задумывался над этим. Но по прошествии лет после деревенского мальчишества кое-что узнал об особенностях этого удивительного XX века и на себе самом испытал, какой беспомощной песчинкой может быть человек, захваченный его бурными вихрями. Поэтому, считаю, у людей моего времени всегда было предостаточно причин особенно не хвастаться своим прошлым. И об этом я ещё расскажу в других главах моей своеобразной повести.
Как я уже говорил, с этой девочкой мы сидели за одной партой и быстро подружились. А во втором классе, честно признаюсь, я был уже в неё влюблён, даже не смотря на её явно болезненную полноту и совсем недетскую мудрость во взгляде агатовых глаз. Она была из какого-то другого, мне неведомого мира, гораздо более моих сверстников-односельчан эрудирована, общительна и доброжелательна. Конечно, я очень старался ни коим образом не обнаруживать свою влюблённость и даже пересел на другую парту, где тоже сидел мальчишка, мой друг Вовка Марасанов, а к ней подсела её подружка Дина. Но попытки мои были тщетны, и ребята нас уже даже перестали скоро дразнить женихом и невестой, потому что мы нисколько не замечали этих насмешек и по-прежнему обменивались записками на уроках и книжками из школьной библиотеки.
Видимо, мы тогда очень быстро развивались, потому что уже во втором классе читали достаточно взрослые книжки. Может быть, потому, что время было такое особенное, а, может, и по той причине, что учились мы в той маленькой школе не так, как обычно и всегда было принято: одна учительница одновременно вела уроки двух классов. За партами одного ряда сидели, например, первоклашки, а на втором – третьеклассники, а годом позже уже второклассники занимались одновременно с ребятами из четвёртого класса. Поэтому ученики младших классов невольно оказывались в курсе школьной программы сразу на два класса вперёд. Мне же вообще в этом плане повезло: за год до поступления в первый класс сын моего крёстного, киномеханик Юра Горященко, привёз из Новой Тарьи, откуда он на собачьей упряжке ездил в наше село с кинопередвижкой, совершенно новенький букварь. Когда он привозил новые кинофильмы, то обычно останавливался у нас, и вот в один из таких приездов Юра, совсем ещё молодой парень лет шестнадцати-семнадцати, показал мне по этому букварю, как буквы складываются в слова. Потом я уже сам стал читать крупные заголовки, а вскоре и некоторые мелкие заметки в газете – их, газет, во все времена у нас в семье было много. В первом классе я прочитал уже первую книжку и запомнил её на всю жизнь. Это был иллюстрированный рассказ канадского писателя Эрнеста Сетона-Томпсона «Рваное ушко», в котором повествовалось о приключениях маленького непослушного кролика, которого крольчиха-мама Молли называла таким необычным именем. И что удивительно: за всю свою жизнь я прочитал ещё много книг этого замечательного писателя-натуралиста и учёного, но больше никогда мне не попадал в руки именно этот его рассказ. Однако я его помню до сих пор.
Так что книги мы тогда начинали читать очень рано, и даже довольно серьёзные. В первом классе, например, я уже принялся читать любимую книгу моего отца «Морской волк» Джека Лондона. Когда эта книжка однажды попала в мои руки, и я начал бегло листать этот пухлый малоформатный томик, меня страшно заинтриговал один рисунок. На книжной страничке какие-то бородатые люди тянули за верёвку на борт шхуны орущего благим матом человека (это можно было угадать по его широко раскрытому рту и искажённому в ужасе лицу), а выскочившая из пенных морских волн огромная акула зубастой пастью вцепилась в его ногу. Я упорно вчитывался в набранные мелким шрифтом строки, пытаясь найти объяснение этой жуткой картинке и, конечно же, вскоре совершенно заблудился в философских метаниях главных героев повести. Дело кончилось тем, что вскорости я просто забросил эту книжку, показавшуюся мне тогда очень уж мудрёной, так и не дойдя до эпизода, запечатлённого на иллюстрации, удовлетворившись достаточно популярным отцовским пересказом сюжета. Позже, когда уже стал взрослым, я прочитал эту повесть несколько раз, и этот американский писатель до сих пор является одним из самых моих любимых. А в то время для нас понятнее были совсем другие книги, которые нам давала читать наша учительница Татьяна Ивановна Иваницкая, которую в нашем селе почему-то звали Татаркой, наверное, потому что она была темноволосая и черноглазая. Очень хорошая, помню, была учительница. (Она же была и заведующей школы, а в августе 1947 года она выдала мне первый в моей жизни заверенный её подписью документ – Свидетельство об окончании четвёртого класса в селе Вилюй, которое хранится у меня до сих пор.) Как-то раз, той же зимой, когда мы начали разучивать новый Гимн Советского Союза, учреждённый годом раньше, она принесла в класс два маленьких томика в белых бумажных обложках, и мы с Валей стали первыми их читателями. Это были литературные выпуски издательства «Правда» того времени: «Дни и ночи» Константина Симонова и «Они сражались за Родину» Михаила Шолохова.
В четвёртый класс Валя уже не пришла: её отца перевели в город, и мы с ней больше никогда не встречались. Я даже попрощаться с ней не мог, потому что обычно всё лето проводил со своим отцом на острове Старичков: там, в трёх милях от материкового берега, на котором стояло наше село Вилюй, колхозные рыбаки всю войну ставными неводами ловили рыбу, а бригадиром у них был мой отец – Фёдор Корнеевич. Деревянные катера «Смелый», «Боец», фанерный утюжок «Лев Толстой» таскали на буксире сразу по нескольку смолёных кунгасов с лососем, сельдью, а в конце войны и с жирным терпугом на засолку в Новую Тарью и в бухту Саранную. А мимо острова с океанской стороны шли в Авачинскую губу и далее в порт Петропавловск огромные утюги-пароходы типа «Либерти» с грузами из Америки, заканчивая здесь, у океанского берега Камчатки, свой путь по штурманской прокладке по Дуге большого круга. Давно уже нет этих трудяг-«либертосов», скроенных на скорую руку в военное время в Соединённых Штатах. Переламывались они в штормы редко спокойного Тихого океана (кстати, на старых российских картах времён Петра Великого этот океан именовался просто Тихим морем), застревали на прибрежных рифах, и тогда нам, камчадалам, в избытке перепадало полакомиться горько-сладко-солёным сахаром – тестообразной, тягучей желтоватой массой, пропитанной морской водой. Да, его продавали нам по сниженным ценам в рыбкооповских магазинах, причём без всяких карточек. Никогда такой не пробовали? А вот нам довелось…
Давно уже нет в живых тех людей, живших в те годы на этих самых восточных берегах России. В одной из следующих глав я постараюсь немного рассказать о них. Мне очень хочется сделать это хотя бы уже потому, что чиновники советского времени буквально вычеркнули из истории страны и дальневосточного региона даже упоминание об этих тружениках моря военного времени. У меня есть основания утверждать это, и о них сейчас скажу. Так, в 60-х годах я прочитал книгу Старицына «Сероглазка – любовь моя». В этой книге автор как раз и рассказывал о камчатских рыбаках военного времени. Он был в то время директором моторно-рыболовной станции – МРС в Сероглазке, которая обеспечивала рыбацким снаряжением и малыми морскими судами всех колхозных рыбаков на камчатском побережье южнее мыса Шипунского. Я был знаком с ним лично. Он часто приезжал в гости к моим родителям в село Вилюй – и когда мой отец был единственным бригадиром колхозных рыбаков самого крупного на побережье ставного невода, который все годы войны устанавливался на океанской стороне острова Старичков, и когда мой отец целый год был уже председателем самого колхоза «Вилюй». Об этих рыбаках, и о моём отце в частности, часто писала областная газета того времени «Камчатская правда» – сам читал однажды огромный очерк об отцовской бригаде, занявший целый разворот формата сегодняшней «Российской газеты». Среди вилюйских рыбаков было немало награждённых за годы войны и после её окончания. Помню, как он, Старицын Михаил Константинович, – автор той книжки, приезжал к нам летом в 44-м году вместе с капитаном НКВД и вручал отцу Почётную грамоту обкома партии, областного Совета и управления НКВД за заслуги в охране границы. К грамоте были приложены и ценные подарки – охотничье ружьё 16-го калибра и заготовки для хромовых сапог (из них отец, удивительный мастер на все руки, потом стачал отличные сапоги для меня, в которых я долго щеголял в послевоенные годы). Я и сам встречался со Старицыным на Камчатке где-то в 1958 году – в то время он был уже председателем знаменитого на всём Дальнем Востоке рыболовецкого колхоза имени Ленина. Тогда он меня тепло принял в своём председательском кабинете в Сероглазке и долго расспрашивал об отце, который уже десять лет к тому времени жил в Приморье, – они ж были давними друзьями. И вот я прочитал его книгу и не нашёл в ней ни одного упоминания о колхозе «Вилюй», ни одной ссылки на его существование и его людей. Одну только «вилюйскую» фамилию я обнаружил в этой книжке – старшины тресколовного кавасаки Морева, и то лишь потому, наверное, что эти мотоботы числились за МРС в Сероглазке.
Не нашёл я упоминания о колхозе «Вилюй» и его людях и в вышедшем позже официальном сборнике документов о рыбаках Камчатки в годы Великой Отечественной войны. Выходит, село с сотнями жителей бесследно исчезло с территории и без того всегда малонаселённой Камчатки и, следовательно, из истории всей страны. Или оно мне всего лишь приснилось в каких-то детских снах? Нет, это был не сон. Просто, в начале 50-х годов (мы в то время уже жили на материке), село Вилюй смыла волна цунами, и много людей погибло – как и на Курилах. Тогда-то, оказывается, и вычеркнули моё родное село, в котором прошло детство, и из советской истории, и из памяти людской вообще. Официальная версия для оправдания подобных вещей знакома многим: мол, чиновники от партии и правительства специально не придавали огласке подобные факты, чтобы не волновать лишний раз людей негативными моментами в нашей жизни. В том числе и по причине стихийных бедствий, или (не приведи Господь!) каких-либо техногенных катастроф, да ещё по вине самого человека. Трогательная забота о нашем душевном покое, не правда ли? И в самом деле, чего только не сделаешь, лишь бы не давать ещё одного повода для размышлений о том, что не всё в нашем советском королевстве было тогда тип-топ.
Хотя, к слову сказать, именно это глухое замалчивание породило ещё тогда, сразу после того страшного бедствия, целую череду самых невероятных слухов. А уже много лет спустя, в раскрепощённые 90-е годы прошлого столетия, например, можно было и в открытой печати встретить рассказы очевидцев, переживших это ужасное и очень уж загадочное цунами.
Вот передо мной владивостокская газета «Новости» за 23 июня 1998 года: на 6–7 страницах её один из таких рассказов. Кстати, в нём совершенно откровенно говорится о вероятном испытании термоядерного оружия у берегов Камчатки. Вот что там писалось. Экономист Галина Луговая переехала из Владивостока на Курилы в 1949 году. Когда случилась эта беда, её муж был у родственников в Александровске, видимо, на Сахалине, а у неё на подселении жила девочка-кассир Катя. Они уцелели, в отличие от тысяч других островитян. Правда, от их дома остались только стены, на одной из них всё так же висел коврик, а вот крыши не было совсем. Когда они встретились снова через несколько дней после катастрофы, Катя не узнала свою старшую подругу: Галина была совершенно седой. Это в тридцать-то лет от роду…
«Катя тогда дружила с парнем, который служил на посту особой секретности, – вспоминает Галина Луговая в том очерке журналиста Юлиана Павлюшина. – Они любили друг друга и были близки. Он доверял ей какие-то тайны, но она об этом помалкивала. А тут рассказала всё. На Курилах, говорит, никогда не было подобной таким масштабам стихии. Да и не стихия это. Генка на экране слежения видел, как прошло испытание то ли водородной, то ли атомной бомбы…»
И далее по тексту: «Работники Шелиховского комбината на Парамушире говорили, что когда их обдало волной, вода была горячая…»
«Видимо, испытатели не рассчитали силу бомбы, – завершает эту часть своих воспоминаний Галина Луговая. – Взорвали близко от берега. Волна пошла в пролив между островами, накрыв их так, что только верхушки сопок остались».
А вот уже существенные признаки намерения властей любыми средствами скрыть истинную правду: когда пострадавших эвакуировали во Владивосток, у них брали подписку о неразглашении того, что они видели собственными глазами и что пережили там, на Курилах, в день катастрофы.
Приведу дословно не менее многозначительное авторское окончание этого очерка:
«Галине пришлось лечь в больницу: психологическая травма, нарушение левой доли гипофиза, лучевая(!) болезнь. К 1956 году появились отёки, начали выпадать волосы, зубы. В 1957 и 1958 годах она по восемь месяцев лежала в краевой больнице. В 58-м медики Владивостока исчерпали свои возможности, и её направили в Москву, где она лечилась ещё полгода в клинике профессора Мясникова и в Институте питания. Подлечили. Даже волосы выросли. Но болезнь осталась навсегда.
Через несколько лет к ней домой пришла какая-то женщина. „Кого вам надо?“ – „Галю Луговую“. Это оказалась Мария Беломестнова – повариха с рыбозавода „Бабушкино“ – она тоже была на Курилах 4 ноября 1952 года.
Поплакали, повспоминали… Боже мой, тысячи людей погибли из-за проклятой эсэсэсэровской секретности…»
В 1957 году я и сам встречался с пережившими это цунами. Братья Варлаковы, которые года на три или чуть больше были меня моложе, жили в то время в посёлке Индустриальном, недалеко от города Петропавловска и работали на местном судоремонтном заводе. Они вообще ничего мне не рассказали о той катастрофе. Немного рассказали их родители – тётя Дора и дядя Максим, – которые в селе Вилюй жили недалеко от нас. Волна смыла часть посёлка, которая называлась Летник. Там, на песчаной косе, было полтора-два десятка жилых домиков с огородами и находился единственный рыбкооповский магазин. Основной посёлок не пострадал: он располагался метрах в двухстах на высокой террасе. Практически все жители Летника погибли. Уцелел только старик Подкатов, который в это время находился по каким-то своим делам в Петропавловске.
Помню, его деревянный домик на самом берегу песчаной косы, а маленький огородик спускался чуть ли не к самой протоке Вилюйки, соединяющей озёра-лиманы Большой и Малый Вилюи с океаном. Сельская детвора всё лето в погожие дни от зари до зари плескалась в тёплом мелководье этой протоки и обсыхала на горячем пляже у самой кромки воды. О еде, естественно, забывали, потому что до Зимника, где с родителями жили многие из ребят, бежать было далековато. А тут был совсем рядом огородик деда Подкатова, где на грядках вызревали аппетитные овощи – редиска, морковка да лучок. Мелкой шкоды он обычно не замечал, потому что мы не старались особенно нахальничать: хватало на всех и пучка той же самой редиски, чтобы, как говорится, заморить червячка. Но однажды мы попали впросак. Кто-то ещё до нашей компании малолеток, видимо, из более взрослых ребят и ночью, основательно разорил эти грядки: они были зверски вытоптаны, овощи выдраны с корнем и валялись вокруг с подсохшей уже ботвой. Эта картина капитального разора расстроила нас не меньше самого хозяина: как-никак, а мы лишались бесплатных перекусов во время постоянных забав в теплой воде и на берегу протоки. Горюя по этому поводу, мы пытались хоть немного набрать для обеда подвядших и затоптанных в землю плодов и, разумеется, потеряли былую бдительность. Вот тут-то и появился перед нами разгневанный хозяин с длинной хворостиной в руках. Ребятня сразу бросилась врассыпную в тундру, что была прямо за косой, а он погнался за нами вдогон. Я, как на грех, оказался в самом невыгодном положении: со мной был братишка Борька, младше меня почти на восемь лет, которому исполнилось в ту пору только три года. А ещё у него была больная ножка, и он, понятно, по этой причине не мог уже бежать быстрее, путался в траве и кочках, запинался и падал постоянно. Пришлось и мне отставать от других ребят, чтобы не оставить брата на расправу хозяину разоренных не нами грядок. Когда дед Подкатов уже наступал мне на пятки, а Борька в очередной раз споткнулся и упал, я остановился, повернулся лицом к преследователю и, рванув, как в каком-то кино, рубаху на груди, шагнул навстречу ему со словами: «На, бей, гад!» Но он тоже остановился, видно, от неожиданности, потом бросил хворостину, повернулся и зашагал в обратную сторону… Вот этот человек и остался в живых из всех бывших жителей Летника.
Остальных вилюйцев, которые жили на Зимнике, потом переселили на западный берег бухты Крашенинникова, где в то время находился рыболовецкий колхоз имени Сталина в рыбацком посёлке Советский. Теперь там вырос город Вилючинск – может, в память об исчезнувшем рыбацком посёлке, а может, в честь вулкана Вилючинского, до заснеженного купола которого, кажется, отсюда совсем рукой подать…
В этом же номере газеты «Новости», рядом с упомянутым мною выше очерком «Апокалипсис в половине четвёртого утра», опубликован и редакционный комментарий под заголовком «Тайна 1952 года». В нём утверждается, кстати, что СССР никогда не проводил испытания ядерного оружия на Дальнем Востоке. «Но, – пишет автор комментария, – 1 ноября 1952 года на атолле Eniwetok в Тихом океане американцы взорвали свою первую водородную бомбу „Майк“ мощностью 10,4 мегатонны. А 4 ноября того же года в 16.52 по Гринвичу у берегов Камчатского полуострова произошло сильное землетрясение, зафиксированное всеми региональными сейсмостанциями и вызвавшее гигантское цунами, прокатившееся через весь Тихий океан.
Интересно, что в перечнях крупных катаклизмов цунами 1952 года на Курилах не упоминается…» Однако по сообщениям американских газет того времени «цунами нанесло сильный урон Камчатскому полуострову и затем продолжило свой поход по Тихому океану. Высота наводнения на острове Мидуэй достигла одного метра – дома и улицы были затоплены. На Гавайских островах волны разрушили пирсы, лодки, повалили телеграфные столбы, смыли пляжи, затопили луга…»
Приведя все эти факты, автор комментария всё же задаёт недоумённые вопросы: «Могло ли испытание американской водородной бомбы стать детонатором землетрясения на Камчатке? Мог ли радиоактивный след взрыва достичь Курил и вызвать лучевую болезнь у Галины Луговой? Или всё же это сталинские соколы и бериевские орлы исхитрились рвануть вблизи островов НАШУ БОЛЬШУЮ БОМБУ? Ведь она могла быть и небольшой мощности. Но поднятая взрывом волна, устремившись в горло Курильского пролива, неизбежно должна была многократно вырасти и накрыть несчастные острова…»
Вот такие пироги с эсэсэсэровскими умолчаниями подобных катастроф получаются…
А в заключение прямо скажу: ещё один факт, приведённый в этой газете, меня буквально потряс. Я впервые узнал тогда, что эта гигантская катастрофа произошла полчетвёртого утра 4 ноября 1952 года – точно в день и час моего рождения в Петропавловске-на-Камчатке, но только семнадцать лет спустя. И ровно через четыре года с той поры, как наша семья уехала с Камчатки на материк на грузопассажирском пароходе «Чукотка». Было тоже начало ноября, но 1948 года…