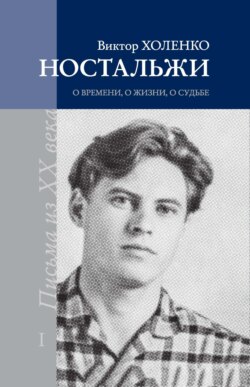Читать книгу Ностальжи. О времени, о жизни, о судьбе. Том I - Виктор Холенко - Страница 8
Часть первая
Любая дорога начинается с первого шага…
Письмо первое
Корни рода моего
5
ОглавлениеКак-то в одном детском журнале в 70-х годах прошлого века (для наших детей мы с женой постоянно выписывали разные там «Мурзилки», «Пионеры», «Костры» и «Вожатые» – кстати, очень интересные по тем временам и достаточно содержательные детско-юношеские периодические издания) мне попался на глаза исторический очерк о времени русско-турецкой войны в Болгарии. Не помню уже названия этого журнала, ни тем более автора очерка, обозначенного мелким курсивом в конце публикации. Забылось, конечно, почти полностью и само содержание, кроме одного удивительного, прямо скажу, курьёзного эпизода – видимо, именно поэтому его и сохранила моя память. Вот краткое его изложение. Была глубокая слякотная осень, когда русские войска подошли к одному болгарскому городку, занятому турками. Несколько попыток взять его сходу штурмом не увенчались успехом – видно, русские солдаты основательно устали после изнурительного перехода по осенним хлябям разбитых дорог. И тут перед глазами раздосадованного неудачей генерала предстал командир одного задержавшегося в походе кавалерийского эскадрона: одежда на нём была мокрая, и сам он, наверное, от чрезмерной усталости, довольно неуверенно держался на ногах. Но его боевой конь яростно бил копытом землю, игриво пританцовывал рядом, выгибая шею и дерзко фыркая, с бешенством вырывал повод из рук коновода. Из сбивчивого доклада офицера до генерала дошло, что эскадрон застрял на переправе: пришлось плыть в холодной воде рядом с конями. Поэтому, чтобы не застудить лошадей после вынужденного осеньего купания, их напоили вином, которого в изобилии оказалось в гостеприимной болгарской деревушке на речном берегу. Ну и, несомненно, решили и сами принять немного «на грудь», так сказать, «для сугреву». Опешивший от такого простодушно чистосердечного доклада генерал не знал, что ему предпринять в ответ – смеяться или гневаться по полной программе. Но, видимо, он не был лишён чувства юмора, потому что, изобразив грозный вид, тут же сказал:
– Видишь турецкие батареи?
– Так точно!
– Взять их!
– Есть!..
Эскадрон пьяных кавалеристов на бешеных пьяных конях тут же ринулся на турецкие бастионы. Турки, уже поверившие было, что продолжения штурма в этот день больше не будет, естественно, несколько расслабились, предвкушая честно заработанный ужин и душеспасительную вечернюю молитву. Но тут они вдруг узрели, что на них прёт какая-то дикая и яростно орущая орда. Однако видавших всякие виды закаленных турецких вояк не только это повергло в несказанный трепет. Им наверняка показалось, что под седлом у этих безумных всадников, яростно играющих выхваченными из ножен саблями, совсем не обычные лошади, а самые настоящие и такие же безумные, ужасно ревущие хвостатые и крылатые чудовища, мечущие огонь из глаз и готовые рвать оскаленными зубастыми пастями всех подряд на своём пути. И случилось невероятное: пушкари в панике побросали свои батареи на бастионах, и турки, не сделав ни единого выстрела, от греха подальше дружно убрались из города, который ещё недавно они так отважно обороняли. Вспоминая этот похожий на солдатскую легенду эпизод, я всегда согреваю себя надеждой, что в рядах того лихого эскадрона гусар летучих вполне мог быть и мой прадед…
Аксиома: идеальных людей не найти на свете. Даже у ангелоподобных вы, несомненно, обнаружите какое-нибудь тёмное пятнышко на белоснежном оперении души, характера, образа мыслей, поступков. Но каждый конкретный человек уникален и неповторим, даже в ряду непосредственных родственников, и это тоже неоспоримая истина. Но всё-таки какой-то определённый генетический стержень, как эстафета, неизбежно передаётся из поколения к поколению каждого отдельно взятого рода. Старший дядя моего отца, Федот, был очень спокойный и чрезвычайно доверчивый человек. И воспитываемый им с детства племянник, пользуясь этакой своеобразной чертой характера своего дяди, мог проделывать с ним разные озорные шутки. Например, такую. Однажды росным летним утром на полевом стане в сенокосную пору племянник разбудил дядю Федота горячим шёпотом:
– Дядя, проснись! Там волк за копной… Совсем рядом!
Для заядлого охотника такой шёпот юнца, что трубный зов. Встрепенулся дядя Федот, схватил ружьё, загнал в стволы патроны с дробью-нулёвкой – для волка сгодится, если подкрасться близко. И, не протерев ещё, как следует, глаза спросонья, прошептал в миг осипшим голосом:
– Где? Показывай…
И точно: за соседней копной, собранной вечор, что-то серое угадывается в утреннем полусумраке.
Ба-бах! Из обоих стволов, естественно.
Качнулась серая тень и снова замерла.
Дядя лихорадочно перезаряжает ружьё. И снова: ба-бах! Разумеется, из двух стволов, чтоб наверняка уже. Пух какой-то полетел с серого, а он почему-то стоит и не падает.
– Эх, – сокрушённо шепчет дядя. – Шкуру попортил, видно…
А племянник давится еле сдерживаемым смехом.
– Ты чего? – спросил дядя, уже начиная подозревать какой-то очередной подвох со стороны скорого на проказы племянника.
А тут подошла и разбуженная выстрелами тётка Марфа.
– Ума у тебя нет, старый, – будто ушат холод ной воды вылила она на дядю. – Протри глаза: ты ж тулуп свой собственный расстрелял!
Тут уже и дядя разглядел, что это его родной тулуп висит на ивовом кусте, и клочья шерсти вокруг.
– Ах ты, пострел окаянный! Надо же учудить такое? – сокрушённо качает головой дядя Федот. – А я-то поверил, дурак старый… Теперь новый тулуп придётся заводить… Выпороть тебя надо, да некому…
На том и заканчивался обычно разбор подобных озорных происшествий: как родного сына любили бездетные дядя и тётка своего сироту племянника…
Однако такой покладистый, мирный по большому счёту характер не помешал дяде Федоту побывать и в сибирских партизанах, когда случилась та самая, пожалуй, самая ужасная в истории человечества братоубийственная в буквальном смысле Гражданская война. И вот как было дело.
Служилый казак Григорий, младший брат дяди Федота, волей судьбы оказался в личной охране Сибирского правителя адмирала Александра Васильевича Колчака, а сам дядя Федот в то время вёл уже скромный крестьянский образ жизни. Первая мировая война изрядно проредила семейные конские табуны, а Гражданская – вообще их кончила. Как жаловался легендарному комдиву Василию Ивановичу Чапаеву в известном фильме крестьянин: «Белые придут – грабють, красные придут – тоже, извините, пожалуйста…» Так оно и в жизни было на самом деле. И осталось у дяди Федота на хозяйстве всего несколько захудалых лошадок, брошенных взамен здоровых и молодых то ли белыми, то ли красными. А в довершение всего и самого его мобилизовали в колчаковскую армию. Но не хотели хозяйственные крестьяне воевать ни за белых, ни за красных – не их это хлеборобское дело оказалось. И бежали они, в одиночку и группами, в свои полуразорённые деревни, где бедовали без отцов-хозяев одни бабы да старики с подростками. И было таких беглецов совсем не мало в каждой деревне. То там, то здесь вынужденно собирались они в отряды самообороны, потому что повсеместно рыскали по сёлам белоказаки, пытаясь выловить дезертиров и снова поставить их в строй, предварительно выпоров плетьми основательно, а заодно потрясти и крестьянские запасы для нужд воюющей армии. Эти отряды самообороны иногда объединялись в настоящие партизанские армии, и они нередко давали серьёзный отпор карателям.
Бежал из белой армии и дядя Федот, а чтобы уберечься от казачьих разъездов, прибился к местному отряду самообороны. Оружия и боеприпасов в ту пору в Сибири и на Дальнем Востоке была уйма, практически в каждой крестьянской избе где-нибудь под стрехой или в тёмном углу за дверью была припрятана то ли русская драгунка, то ли австрийский карабин, американский винчестер или японская арисаки. А о револьверах чуть ли ни любых мировых марок и говорить было нечего. Так что хоть на этот счёт сибирским крестьянским партизанам повезло: щедро снабжали страны Антанты армию Колчака оружием. Кстати, знаменитые русские трёхлинейки, производимые в ту пору в Соединённых Штатах фирмой Remington, пережили и Великую Отечественную войну, и мы, старшие школьники 50-х годов XX века, в учебных классах по военному делу ещё долго азартно щёлкали затворами этих вороненых раритетов с просверленными патронниками.
Естественно, дисциплина в этих отрядах самообороны тоже была, мягко говоря, партизанской, то есть довольно условной, и любой «боевой штык» мог в удобный для него момент сбегать на побывку в родную деревню, даже не предупредив партизанское начальство. Однажды и дядя Федот, узнав от побывавшего в деревне соседа, что дома у него гостит брат Григорий, отпущенный на несколько дней к родственникам, тоже решил сбегать в село: и брата давно не видел, да и в баньку заодно хотелось сходить. Но на свою беду у самой околицы попался в сети казачьего разъезда, охотившегося за дезертирами. Был уже вечер, казаки заночевали в селе, чтобы уже утром отправиться в Омск. Григорий был в бане, когда ему сообщили о случившемся. Он быстро надел свою форму казачьего старшего урядника, взял у плачущей жены брата бутыль самогона и направился к остановившимся на постой казакам. Всю ночь он пьянствовал с ними в соседней избе, уговорил их взять с собой в город, сказав, что одному ехать, мол, несподручно, а, вернее, просто опасно по причине военного времени. А утром велел четырнадцатилетнему Федосу запрячь коней в бричку и подогнать её к сараю, где ночевал на соломе его старший брат. Казаки с Григорием ещё выпили на дорогу хорошо, усадили связанного дядю Федота в бричку, Федос молча тронул вожжи, и кортеж запылил за околицу.
Примерно верстах в пяти за деревней остановили притомившихся коней, ещё раз закусили очередную порцию выпитого самогона, и дядя Григорий предложил казачьему уряднику, командовавшему разъездом:
– Слушай, земеля, а на кой хрен мы тащим этого мужика в город? Там его всё равно к стенке поставят – взят ведь с оружием, значит, партизан. А почему бы нам здесь не потешиться? Отпустим его в этот ложок, и спорю на бутыль самогона, что я его сниму с двадцати шагов из своего нагана…
Ударили по рукам, развязали дядю Федота и приказали:
– Беги!
Глянул дядя Федот на брата и тут же, резко развернувшись, ринулся с дороги вниз, как был босиком и в распоясанной рубахе. Полосовал босые ноги сухой камыш, крошился под израненными ступнями беглеца тонкий октябрьский ледок. Дядя Григорий дал хорошую фору брату, прежде чем выстрелил.
– Ей-бо, промазал, – разочарованно загалдели казаки разъезда. Кое-кто стал торопливо снимать карабин из-за плеча, защёлкали затворы. Но их начальник крутнулся в седле и благодушно рыкнул:
– Отставить! Спор есть спор!
Дядя Григорий ещё несколько раз поспешно выстрелил из нагана, и всё мимо. Разрядил весь барабан – тот же результат. А дядя Федот уже совсем далеко: только слышно, как трещат камыши да хрустит под его ногами ледок. А там, близко совсем к камышам, уже опушка леса с куртинками густого орешника.
– Вот досада: сбёг, раздолбай…
– Да Бог с ним, брат, – хрипло рассмеялся казачий урядник. – Далеко не уйдёт – всё равно сдохнет где-нибудь там. Морозно, однако… Доставай-ка свою бутыль – видел я, как ты её в торока укладывал…
А дядя Федот всё же выжил. Добрался он до своей дальней заимки, отогрелся у печи, да и кое-какую старую одежонку там нашёл.
Кстати, уже после Гражданской войны братья снова встретились в своём селе: вернулся в тот же год после ранения откуда-то, чуть ли не от самого Байкала, Григорий – без него уже белочехи сдали Сибирского правителя красным, выздоровел после того осеннего случая и Федот. Мирно крестьянствовали они под Омском до 30-х годов. Только по праздникам, встречаясь за семейным столом, они непременно начинали свой спор о том, кто же всё-таки был прав в той братоубийственной Гражданской войне. И поднимали очередную стопку во славу Господа, позволившего им выжить в той беспощадной общенародной схватке за Россию – у каждого за свою. О них, своих дядьях, и рассказал мне, уже взрослому, мой отец, Фёдор Корнеевич, который совсем в юном возрасте оказался свидетелем тех памятных событий. В 1937 году, когда мне исполнилось только два года, родители со мной вместе поехали с Камчатки в отпуск на свою родину, в Омск. Но никого уже из дядьёв не было в живых – ни красных, ни белых не щадили лихие 30-е годы. Всего на несколько лет пережил своих последних детей мой прадед Тимофей: как рассказывала потом моя тётя Антонина, старшая мамина сестра, умер он в сто пять лет от роду, незадолго до начала Второй мировой войны…