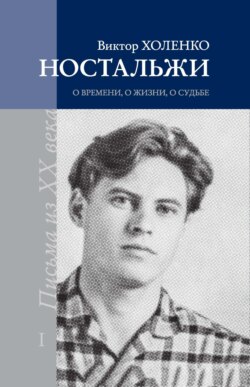Читать книгу Ностальжи. О времени, о жизни, о судьбе. Том I - Виктор Холенко - Страница 7
Часть первая
Любая дорога начинается с первого шага…
Письмо первое
Корни рода моего
4
ОглавлениеНесомненно, корни любого человека уходят далеко в глубь веков. Но, к великому сожалению, не каждому из нас суждено проследить свою родословную хотя бы до пятого колена. Как вот, например, мне. Только по каким-то крохам устных рассказов старших родственников и сведений из некоторых иных информационных источников удалось установить, откуда пошла наша родовая фамилия. Так, можно предположить, заглянув в Толковый словарь Даля, что у неё напрашиваются сразу два смысловых корня. Первый можно перевести на современный русский язык как баловень, неженка, человек, живущий в достатке, в приволье – от древнеславянских слов «холя, холень». Такая кличка, позже превратившаяся в фамилию, издревле была распространена среди восточных славян, поселившихся на землях Поднепровья, от истоков до устья былинного Славутича, со всеми его бесчисленными притоками в лесных и степных краях. Её носили служилые люди и купцы, они могли быть и в княжеских дружинах со времён Ратибора и Святослава, и среди вольницы Запорожской Сечи, и в казачьих полках Богдана Хмельницкого – ведь это наша общая история, из которой все мы вышли к нынешним дням. Доподлинно известно, например, что такую кличку-фамилию носила одна из семей брянских бояр, выходцем из которой был в начале семнадцатого века думный боярин Алексей. В это же время в Пскове жил посадский человек Добрыня с той же фамилией, владевший соляной лавкой. Ближе к нашему времени были довольно известны учёный-лесовод, профессор лесного института в Санкт-Петербурге Иван Семёнович Холенко (1838–1901 годы), который был родом из Чернигова, и московский живописец и преподаватель в художественной школе Пётр Николаевич Холенко (1858–1920 годы). Не могу, конечно, всех их считать выходцами из одного родового корня, хотя и не допустить возможности нашего дальнего родства тоже не берусь. По крайней мере, одно можно сказать с полной уверенностью, что фамилия наша и сегодня достаточно распространённая, а кто кому и в каком колене доводится родственником, наверняка знает только Всевышний.
Обратившись всё к тому же словарю Даля, можно обнаружить ещё один возможный смысловой корень нашей фамилии. Так, в херсонском говоре в середине девятнадцатого века ещё было в ходу слово «хола», которое означало «подводный корч, корчага на Днепре». И если считать, что от этого диалектного слова могла произойти наша фамилия, то по смыслу она оказалась бы идентична русским фамилиям Корчев или Корчагин. Однако твёрдое «л» в слове «хола» всё же заставляет сомневаться в возможности подобного варианта.
Мой прадед по отцовской линии был родом из Черниговской или, может быть, Запорожской губерний Малороссии, где традиционно формировались несколько кавалерийских полков царской армии. Как, собственно, и в южных, пристепных губерниях центральной России. А ещё раньше, во времена вольного украинского казачества, базой и постоянной припиской местных казачьих полков были, кстати, города Чигирин, Черкассы, Чугуев, да и сам Чернигов, не единожды отмеченный в русских летописях как славянский заслон на рубеже Великой степи. Так вот, заговорил я об этом лишь по одной причине: где-то в середине девятнадцатого века в один из этих полков был призван на службу мой прадед Тимофей Холенко. И в том, что он являлся прямым потомком украинских казаков, не приходится сомневаться, поскольку других в эти кавалерийские полки, гусарские, драгунские или уланские, со времён царя Алексея Михайловича, в бытность которого Украина добровольно вошла в состав России, просто не брали.
Так вот, мой прадед прослужил в одном из таких полков двадцать пять лет, воевал с турками в Болгарии и, возможно, ещё и в Туркестане участвовал в Ахалтекинской битве, в результате которой была присоединена к России и эта часть Средней Азии. А предположил я это вот почему. Демобилизовавшись, прадед женился и поселился в Мелитополе, вырастил трёх крепких сыновей – таких же лошадников, каким был он и сам. А потом всей большой семьёй вдруг отправился на волах в эту самую Среднюю Азию, в качестве переселенца в одно из местных казачьих войск – тогда, в конце девятнадцатого – начале двадцатого века царское правительство проводило такую своеобразную акцию по укреплению сравнительно слабо населённых территорий казачьих войск в Сибири и на Дальнем Востоке. Видимо, мои родичи первоначально всё же выбрали Семиреченское казачье войско, поскольку поселились именно в форте Верный, который был переименован в советское время в Алма-Ату. А почему был выбран моим прадедом именно форт Верный, да потому, видимо, что он был ему хорошо знаком ещё по армейской службе. И только позже, накануне Первой мировой войны, перебрались мои предки под Омск и стали жить в пригородном селении на крутом берегу Иртыша. И до конца дней прадеда на самом почётном месте в его избе висел портрет генерала Скобелева. Наверное, у него на это были достаточно веские причины.
Был он, по рассказам, крепким, жилистым человеком и прожил сто пять лет. Даже в глубокой старости он мог запросто приволочь на плече к своей избе срубленный в леске дубок, не обрубив на нём даже крупных ветвей, или прогуляться «до ветру» по заснеженному двору босиком. За ним и другие подвиги водились. В селе этом брали воду из Иртыша и возили её на крутой берег в бочках на лошадях. И вот как-то застряло колесо в канаве, и лошадь, как ни напрягалась, но не смогла сдвинуть телегу с бочкой с места. Тогда прадед Тимофей выпряг её, отвёл в сторонку, и сам взялся за оглобли. И вытянул телегу с тяжёлой поклажей на самый верх иртышского берега.
Характер у прадеда, говорят, был спокойный и довольно доброжелательный, компанейский. Он был терпелив и немногословен, но страшно не любил, когда с ним поступали несправедливо: тогда он мог неожиданно взорваться и натворить даже немалых бед. Когда семья закрепилась на новом месте жительства в форте Верный и немного обжилась, младший сын Григорий ушёл служить в казачий полк, а с двумя другими сыновьями, Федотом и Корнеем, прадед занялся разведением коней. Но на первых порах пришлось всё же поддерживать семейный бюджет за счёт охоты и рыбалки, благо, что для всяческой дичи и прочей живности в тугаях Семиречья и Прибалхашья было настоящее раздолье. В изобилии водились в этих местах разная рыба и птица, в камышах в два человеческих роста бродили несметные стада диких кабанов, и их бережно «пасли» полосатые «пастухи» – среднеазиатские тигры. Так что охотолюбивой душе было где разгуляться. Кстати, мой дед Корней, по отцу, однажды лично встретился одновременно сразу с двумя этими могучими властителями фауны тех камышовых джунглей. Как-то он возвращался с охотничьей тропы в свою землянку, устроенную в глубине тугаев на небольшом островке. И тут его взору предстал полный раззор во временном приюте промысловиков: дверь была сорвана с ременных петель и упала внутрь избушки, а в ней, родимой, всё было разбросано, разрыто, запасы продуктов, одежда, постели охотников и нехитрая походная посуда – всё перемешано с землёй, будто дикий табун прошёлся. По оставленным следам перед дверью и в самой избушке мой будущий дед определил, что побывали здесь кабаны. Один или два как минимум, но поработали основательно. Делать было нечего, пришлось наводить хоть какой-то порядок. Сокрушённо вздыхая, прислонил винтовку-бердану у входа к уцелевшему дверному косяку и принялся за дело. Увлёкся настолько, что не сразу услышал какие-то подозрительные звуки за спиной. Насторожился только тогда, когда в землянке с маленьким оконцем вдруг резко потемнело. Оглянулся и окаменел: в узком дверном проёме, где была прислонена к косяку однозарядная бердана, в землянку пятился зад огромного секача. Кабан злобно похрюкивал и медленно отступал перед каким-то грозным молчаливым противником, уже напрочь перекрыв доступ к оставленной у двери бердане. В наличии оказался только охотничий нож, который всегда был в ножнах на поясе. Им и воспользовался мой дед. Удар был нанесён в единственно уязвимое место в данной ситуации – по яичкам секача, рельефно выступающим в нижней части кабаньего зада. Секач взревел и бешено ринулся вперёд на загонявшего его в землянку противника. Когда дед уже с берданой в руках вышел из землянки, на поляне перед собой он увидел поверженного тигра с развороченным кабаньими клыками боком и самого секача на издыхании с разбитой головой. Так гласит давняя семейная легенда.
Мой прадед Тимофей и его сыновья охотились вместе с одной семьёй из местных жителей, семиреченских казаков. Глава этой семьи, на редкость прижимистый и, видимо, не очень порядочный человек, как раз и верховодил в их промысловой артели. Это обстоятельство и привело, в конце концов, к конфликту, переросшему со временем чуть ли не в кровную месть, держащей обе семьи много лет во взаимной враждебной напряжённости. Мой отец даже мне, когда я стал взрослым, и с тех давних событий, как говорится, утекло уже много воды, назвал фамилию этой семьи и предупредил, чтоб я был всегда настороже, коль встречу человека, носящего такую же. Я помню её до сих пор, но никогда не встречал кого-либо хотя бы с похожей фамилией. Так вот, вначале в артели всё шло вроде бы нормально. Но однажды осенью, когда начали делить доходы от охоты и рыбалки, мой прадед вдруг обнаружил, что глава артели бессовестно обжулил его с сыновьями. Был поздний вечер, праздничное застолье по случаю окончания сезона подходило к концу, когда прадед стал предъявлять свои претензии нечестному хозяину. Слово за слово, страсти накалились, кряжистый хозяин схватил прадеда за грудки. Но лучше бы он этого не делал, потому что старому вояке такое обращение, видно, было непривычно и, вполне естественно, поэтому очень не понравилось: он просто поднял обманщика над своей головой и вышвырнул его в окно. Окно это с вышибленной рамой на беду оказалось на втором этаже особняка, да и во дворе, понятно, было не мягко, поскольку землю уже сковал мороз. Поэтому уличённый в мошенничестве глава артели прожил после того вечера всего только три – четыре дня.
Скандал замяли, поскольку прадед оказался всё-таки прав в своих претензиях, и года два они вообще больше не охотились вместе. Только после сокрушительного землетрясения в 1911 году, порушившего форт Верный основательно, средний сын Тимофея, Корней, снова вступил в ту же артель, видно, нужда заставила. Но с той охоты он уже не вернулся: его нашли мёртвым под опрокинутым возом с мороженой рыбой. Потом выяснили, что это был совсем не несчастный случай: да, он был предварительно застрелен выстрелом в спину, прежде чем оказаться под опрокинутым возом. И хотя все догадывались о том, кто это мог сделать, прямых улик не оказалось, и виновного не нашли. Так моя бабка по отцу, Соломея Кондратьевна, полунемка-полуукраинка из Асканьи-Новы, стала вдовой, получив три рубля в виде компенсации за гибель мужа, а мой отец с сестрёнкой Татьяной и младшим братом Василием – сиротами. Случилось это в 1912 году, и тогда-то вся семья и перебралась под Омск. На новом месте братья погибшего Корнея продолжили заниматься коневодством для нужд уже преимущественно Сибирского казачьего войска.
Мать моего отца вскоре снова вышла замуж и, сменив фамилию, стала с тех пор называться Носовой. Вскоре у моего будущего отца появился ещё один брат, которого нарекли именем Пётр. Но отец мой, оставшись сиротой, не пошёл в новую семью матери, а остался жить у дяди Федота. В семье дяди не было своих детей, и родственники с доброй душой приняли под своё покровительство осиротевшего племянника. Жил с ними и старый дед Тимофей. Всё лето вся мужская часть семейства, в том числе и подросток Федос, как по-домашнему прозывали здесь с детства моего отца, проводила в прииртышских степях с конскими табунами. Так и вырос он среди лошадей, находясь под постоянным приглядом достаточно строгого деда и довольно флегматичного дяди, с его добродушной супружницей.