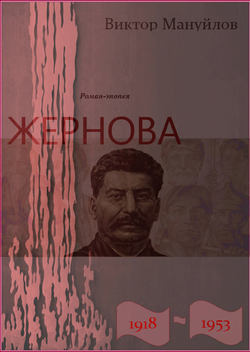Читать книгу Жернова. 1918–1953 - Виктор Мануйлов - Страница 12
Книга первая. Иудин хлеб
Часть 1
Глава 12
ОглавлениеНа Кронверкском проспекте, 23, в доходном доме Елизаветы Барской, Горький снимал весь второй этаж из одиннадцати комнат. Четыре комнаты занимал он сам: спальня, библиотека, кабинет и комната-хранилище художественных произведений, скупаемых им за бесценок у обнищавших владельцев. В самой большой из комнат была устроена столовая. За длинным обеденным столом каждый день собирались обитатели квартиры и кое-кто из ближайших друзей-приятелей, частенько столовавшихся в это голодное время у хлебосольного хозяина. Впрочем, принимали и совершенно незнакомых.
Когда Горький вошел в столовую, там суетились, собирая на стол, две женщины. Неожиданно для себя он застал в столовой и своего двадцатилетнего сына Максима, приехавшего ночным поездом из Москвы, где жил со своей матерью, Екатериной Павловной Пешковой.
Макс ходил вдоль стола и что-то жевал. Увидев отца, поперхнулся, пошел ему навстречу, оправдываясь:
– А я вот даже позавтракать не успел. Пока ехал на лихаче с Московского вокзала, не встретил ни одной открытой харчевни. И город будто вымер – одни патрули.
Отец и сын сошлись, обнялись, расцеловались.
Горький прослезился, тиская сына в своих объятиях, то и дело отстраняясь, разглядывая его и восклицая:
– А ты повзрослел, повзрослел, мой мальчик! Возмужал, возмужал! – Спросил: – Чем теперь занимаешься?
– Феликс Эдмундович назначил меня дипкурьером. Вот… приехал. Привез бумаги для Зиновьева, Урицкого, еще для кого-то… – Пояснил: – Сам знаешь: почта работает из рук вон плохо. Вот и приходится… Как сказал мне Владимир Ильич, через год-два все наладится, крестьяне будут пахать и сеять, рабочие производить промышленные товары, интеллигенция…
Макс хотел было продолжить, чтобы показать, как он близок к нынешней власти, но отец, не слушая его, заспешил с новыми вопросами, не давая сыну ответить ни на один из них, вытирая скомканным платком глаза:
– Что новенького в Москве? Часто ли видишься с Лениным? Как там мать? Пишет мне редко, о восстании эсеров – ни слова. Она еще не порвала с ними? Как к ней относится Дзержинский? Не прижимает? Нет?
Горький боялся ответов сына, тем более прилюдно, зная о его не самых лучших пристрастиях и поступках, боялся ссоры, новых переживаний за его судьбу и неизбежных пересудов по этому поводу «в определенных кругах».
Тисканье отца с сыном продолжалось бы и дальше, если бы в столовую, стараясь быть незаметными, не вошли друг за другом великий князь Гавриил Константинович Романов и его жена Анастасия Нестеровская, бывшая балерина. Князя – по случаю его болезни – Горькому совсем недавно удалось вызволить из пересыльной тюрьмы, но там еще оставались великие князья Павел Александрович, Дмитрий Константинович и Николай Михайлович, освобождения которых Горький продолжал добиваться, бомбардируя Ленина и Зиновьева письмами, доказывая, что князья занимаются научной и просветительской деятельностью, а посему не представляют опасности для Советской власти.
Горький еще не знал, что по приказу Зиновьева, согласованного с Лениным, великие князья уже были расстреляны.
Отпустив сына, Алексей Максимович шагнул навстречу супругам, протягивая обе руки, точно собираясь обнять обоих сразу.
– Все хотел с вами поговорить, Гавриил Константинович, да все как-то… то одно, то другое, – оправдывался он, конфузясь и пожимаясь, до сих пор чувствуя себя незначительным человеком в присутствии «их сиятельств». – Пока ни Зиновьев, ни Ленин не отвечают на наши запросы. Черт знает что! Для них личность – явление ничтожное, – все более возбуждался Алексей Максимович, вцепившись в рукав домашней куртки великого князя. – В России, как всем известно, мозга мало. Мало талантливых людей. Потому что ничтожен процент грамотности. И слишком – слишком! – много жуликов, мерзавцев, авантюристов. При этом большевики ведут искоренение – именно так! – полуголодных стариков-ученых, которые продолжают заниматься своей работой на благо России! Они выселяют их из квартир, всячески оскорбляют, засовывают в тюрьмы под кулаки идиотов, обалдевших от сознания власти своей над беззащитными людьми. И самое невероятное с точки зрения самосознания еврейского народа, что в этой гнусности принимают участие евреи-большевики. Я вовсе не ставлю знак равенства меду евреями и большевиками. Упаси бог! Но массы на практике сталкиваются чаще всего с евреями, которые руководят этим искоренением, возглавляют процессы текущей жизни. Так нельзя! Подобное явление не может не вызывать глухое сопротивление обывателя. В то же время оно внушает евреям, что им позволено все. Буквально все для достижения поставленной цели! Я об этом писал Ленину. Меня беспокоит, что притихший было в России антисемитизм вновь поднимает свою змеиную голову. И об этом писал ему тоже, но тогда не все было ясно…
Горький поперхнулся и умолк, увидев входящую в столовую Марию Федоровну Андрееву, считавшуюся его то ли второй, то ли третьей женой целых восемь лет. В ее присутствии он опасался критиковать советскую власть, особенно – ее кумира Ленина: она бы ему не спустила.
Андреева переступила порог столовой, гордо неся свою царственную голову, обрамленную золотисто-рыжими волосами. Несмотря на возраст, она все еще была хороша собой. За нею, точно цыплята, следовали двое ее повзрослевших детей. Процессию замыкал секретарь Андреевой и, одновременно, ее сожитель Петр Петрович Крючков – ПеПеКрю, как его называли заглазно. Невысокого роста, несколько полноват, но весьма импозантен, он был на целых 17 лет моложе своей сожительницы. Лишь недавно став членом партии большевиков, он одновременно поступил на службу в ВЧК. В его обязанности входило – помимо всего прочего – докладывать лично Дзержинскому обо всем, что делалось и говорилось на Кронверкском, 23.
Горький смотрел на Марию Федоровну со странным чувством изумления, смущения и робости: так она изменилась с тех пор, когда играла в его пьесе «На дне» Наташу. Ведь ради неожиданно вспыхнувшей между ними любви он оставил в 1904 году – подумать только, как давно это было! – свою законную жену и двоих детей. То было время бурных страстей не только вспыхнувших между ними, но и по всей России. Андреева втянула своего любовника в политику на стороне большевиков, вместе они помогали тем, кто сражался на баррикадах Красной Пресни в Москве в декабре пятого года, вместе бежали за границу после поражения революции, несколько лет провели на итальянском острове Капри, вместе посетили Америку с целью раздобывания денег для партии Ленина.
Их союз распался в 1912 году: накапливались противоречия, Горькому становилось все труднее терпеть бескомпромиссный и решительный характер Андреевой, пламя бурной любви постепенно угасло, едва тлеющие угли уже не грели. К тому же появилась Мария Закревская, свежая, молодая. Она взяла в свои руки переводы писем Горького на языки писателей разных стран, их письма – на русский язык, заменив Макса, оказавшегося бестолковым переводчиком, а в постели – Андрееву.
Оставив великого князя с супругой на полуслове, Горький шагнул навстречу Андреевой. Поцеловав ей руку, он покровительственно похлопал по плечу детей, пожал руку Крючкову.
– Как ты себя чувствуешь? – задала Мария Федоровна дежурный вопрос.
– Спасибо, нечего, – пробормотал Алексей Максимович дежурный же ответ, чувствуя на себе ревнивый взгляд Варвары.
Постепенно подтягивались другие обитатели квартиры и дома. В их числе бывший супруг Варвары Тихоновой, проживавший в другом подъезде. И двое тихих, незаметных художников, когда-то прославившихся карикатурами на Ленина, Троцкого, как, впрочем, и на политиков из других партий. Их карикатуры печатались в демократической прессе, в том числе и в Горьковской газете «Новая жизнь». Питерская Чека художников, как и великого князя с женой, пока не трогала, и все они томились в ожидании возможности выезда из России – неважно, куда, – прислушиваясь к каждому подозрительному звуку, доносившемуся извне.
Сегодня гостей со стороны почему-то не было. Подобное случалось редко, и пустые стулья, сиротливо торчащие над столом своими резными спинками, создавали впечатление какой-то зловещей недосказанности.
Здесь, между прочим, не только кормили, но и одаривали иных продовольственными пайками. Горькому это ничего не стоило, кроме нервотрепки из-за постоянных стычек с комиссарами Петросовета, ведающими распределением материальных благ: Алексей Максимович неофициально возглавлял «Комиссию по оказанию материальной, продовольственной и бытовой помощи деятелям науки и культуры». Но не сам-перст, а совместно с некоторыми академиками и профессорами с мировыми именами. ведь в Питере находилась и сама Академия наук, и большинство ее институтов, здесь жило и работало большинство ученых, писателей, художников, музыкантов – весь цвет российской интеллигенции.
Напольные часы показывали пятнадцать минут третьего. Однако колокольчик у подъезда молчал. Молчал и телефон. И хотя никто не проронил ни слова, но время ожидания вышло, и каждый занял свое место за обеденным столом.
На столе в огромной фарфоровой супнице томился рыбный суп. Конечно, это не настоящая русская уха, однако в нем было почти все, что положено: и крупный судак, порезанный на куски, подаваемые отдельно; и молодая картошка, и морковь, и корешки и зелень петрушки. Для сытности в суп была добавлена перловая крупа, а по случаю отсутствия черного перца – горький луговой лук. Рыбу привозили с Ладоги рыбаки, стоила она не слишком дорого.
В плетеной из хвороста ажурной хлебнице блестящей корочкой манил ситный хлеб из хорошей ржаной муки. Посредине стола пел заунывную песню двухведерный тульский самовар.
На второе была подана жареная картошка с зайчатиной – почти невозможная роскошь по тем временам.
Ели не спеша, особенно гости, стараясь показать, что они не настолько голодны, чтобы спешить, и вообще попали за этот стол случайно, да и неловко как-то отказываться, когда тебя приняли с таким радушием.
Алексей Максимович – на правах хозяина – восседал во главе стола. Он, напротив, ел быстро, посылая в широко разеваемый рот ложку за ложкой, стараясь не замочить усы, прикрывающие не только верхнюю губу, но и – частично – нижнюю, на его худом костистом лице челюсти двигались как два жернова. При этом он с хитроватой усмешкой поглядывал на сотрапезников, посверкивая влажными глазами, так что кому-то могло показаться, что Горький то ли вот-вот заплачет, то ли засмеется. А он не собирался делать ни то, ни другое. Он всего-навсего боялся, что его трапезу вот-вот прервет чахоточный кашель, который возникал чаще всего именно тогда, когда его не ждешь. Ну и, наконец, он просто не мог есть молча, тем более что в голове его постоянно возникали мысли, которыми он должен был поделиться с присутствующими. А то ведь как бывает: соберутся интересные люди, наедятся и надолго пропадут неизвестно где, так и не узнав, что думает писатель Горький о тех безобразиях, что творятся в Питере, – и не только! – и что он делает или собирается делать, чтобы эти безобразия прекратить. Уж кому-кому, а Горькому известно, что о нем думают некоторые интеллигенты, уверенные, что именно он своим творчеством и конкретными делами способствовал возникновению этих безобразий, неважно, по глупости или по злой своей воле.
Но новых интересных людей сегодня почему-то не было, постоянные жильцы и без того знали, что думает Горький по тому или иному поводу.