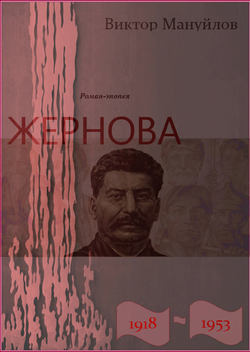Читать книгу Жернова. 1918–1953 - Виктор Мануйлов - Страница 22
Книга первая. Иудин хлеб
Часть 1
Глава 22
ОглавлениеПосле деревенского схода миновало четыре дня, и все эти дни Гаврила не находил себе места, все валилось у него из рук. Отец пытался его урезонить, но, видя, что Гаврила как бы не в себе, махнул на него рукой и поедом ел остальных домашних.
На дню раза по три – по четыре Гаврила будто невзначай оказывался возле сельсовета, но внутрь не заходил, а лишь постоит рядом, послушает, о чем говорят мужики, ездившие в волость или в уезд, покурит с ними и побредет куда-нибудь, но чаще – на край деревни, к пяти соснам, откуда начинается дорога к мельнице.
Нынче по этой дороге никто не ездит, разве что к реке за лозняком да на нижние луга за сеном, потому она лежит, занесенная снегом, переметенная косыми синими снежными языками, испятнанная заячьими петлями, лисьими кружевами, мышиными строчками да птичьими крестами. Вдоль нее поднимаются бурые кусты репейника с цепкими катышками семенников да черные метелки конского щавеля. Внизу, в полуверсте отсюда, дорога сворачивает налево, пересекая бочажину в самом мокром месте. Там лет пять назад была уложена бревенчатая гать, между серыми бревнами уже выбросились на свет божий тонкие побеги вездесущей ольхи. Почти сразу же за дорогой течет река, над ее берегами высятся старые ветлы, увешанные грачиными гнездами. А на той стороне, вдоль обрывистого берега, раскинулись сенокосные луга, за лугами, до самого горизонта, темнеет глухой лес, над ним висит неподвижная кипень облаков с лиловыми подбрюшьями и розовыми боками, нагретыми опускающимся солнцем.
Гаврила часто вглядывается в эти дали, манящие его невесть куда и зачем.
Однорукий Митрофан уже два дня как уехал в волость оформлять решение схода и будто в воду канул. Запил небось там со своими многочисленными родственниками, и дела ему нет до Гаврилы и его переживаний.
Но на третий день вечером, как раз в четверг, едва Мануйловичи сели ужинать, прибежал Митрофанов малец и позвал Гаврилу в сельсовет. Гаврила вскочил столь поспешно, что свалил табурет, накинул на плечи зипун и вышел, даже не облизав своей ложки.
Однорукий Митрофан сидел за столом, выставив вперед редкую сивую бороду, курил самокрутку, окутываясь густым дымом, щурил глазки цвета еловой коры и хитренько смотрел на Гаврилу, а на дощатом столе лежала бумага, с которой Гаврила не сводил глаз, едва переступив порог Митрофанова кабинета.
– Ну, ставь магарыч, Гаврила Василич, – весело осклабился Митрофан черным частколом зубов. – Вот она твоя бумага, все тута подписи и печати, как положено. Так что завтрева давай запрягай, поедем, примешь мельницу и избу по акту, чтоб все на законном основании.
– Да я… да я хоть сейчас… хоть какой магарыч… – заволновался Гаврила. – Я уж и так думал, раз сход решил, так чтоб по всему обыкновению, по обычаю. Это мы понимаем, а как же, Митрофан Ксенофонтыч… мирское дело… спокон веку…
– Новоселье – оно, конешное дело, а спрыснуть бумагу положено, как говорится, потому совецка власть – она для хрестьянина делает супротив прежнего, и все такое протчее… Вот об чем речь, Гаврила Василич, а новоселье – это опосля.
– Да я со всей душой! Мы как раз только что ужинать сели, а тятька и говорит: чтой-то, говорит, однорукого долго нету… Извиняюсь, конечно, Митрофан Ксенофонтыч. Так что милости просим.
И Гаврила, взяв бумагу дрожащей рукою, стал пятиться к двери и кланяться, будто перед ним за обшарпанным столом сидел не однорукий Митрофан Вулович, хоть бы и председатель совета, а становой пристав из старых режимов.
На другой день рано поутру, кряхтя с перепою, Гаврила запряг лошадь и выехал со двора. Железные полозья саней с хрустом давили ледяную корку, образовавшуюся за ночь, из-под копыт лошади летела снежная крошка, лошадь фыркала, трясла головой, из ноздрей ее шел пар. Морозный воздух пощипывал нос и прояснял голову. Только выехав на улицу, Гаврила осознал наконец, куда и зачем едет спозаранку, расправил грудь и заломил баранью шапку на ухо.
Вчера, по пьяному делу, они малость повздорили с отцом из-за имущества, которое Гаврила должен вывезти с подворья, но сегодня, в это чистое морозное утро, Гаврила готов был убраться на мельницу хоть голышом, потому что был уверен: мельница за год-два поставит его на ноги, и тогда он не только приобретет себе хорошего коня, но непременно справит и кое-что еще, о чем не мог мечтать неделю назад.
Даже, может быть, и граммофон…
А что? Сидишь, положим, за самоваром, рядом жена в новом сарафане и в черном, с большими и яркими цветами платке с бахромой, наброшенном на плечи; с обеих сторон дети: парни в новых нарядных рубахах, девки в цветастых сарафанах; сам тоже во всем новом, а по жилетке золотая цепочка от часов… Да, так вот, сидишь, значит, вместе со всеми, пьешь чай с городскими конфектами и слушаешь песни и разную музыку. Благодать.
Но граммофон – это так, мечтания, а вот железную кровать с блестящими шарами, комод, как у местечкового попа, отца Виссариона, буфет со стеклянными дверцами, чтоб была видна красивая посуда, ну и другое что – это уж в первую голову. А потом и граммофон.
Возле избы с красным флагом, поникшим над покривившимся крыльцом, Гаврила придержал лошадь.
– Стой, черт тя побрал! – громко выкрикнул он, рассчитывая, что председатель сельсовета услышит его, выйдет и они без задержки поедут на мельницу. Но Митрофан, судя по тому, что на дверях совета висел замок, который Гаврила сразу не разглядел, был еще дома и, надо думать, гонял чаи.
Что ж, власть – она и есть власть, хоть мужицкая, хоть какая, без куражу ей никак нельзя. Гаврила в это верил твердо и поэтому нисколько не опечалился. Теперь, когда бумага с печатью и подписями покоилась у него за пазухой, аккуратно сложенная вчетверо и помещенная в обложку от какой-то старой молитвенной книжки, нутро которой пошло на курево, теперь Гаврила обрел всегдашнее спокойствие и уверенность.
Эту бумагу у него не взять и силой, а уж по собственной воле он не отдаст ее даже родному отцу. Так что спешить особо нечего, мельница от него не уйдет.
Гаврила достал кисет, вынул из него сложенную гармошкой газету и принялся крутить цигарку.
Сзади, в проулке, захрумкал снег под чьими-то тяжелыми шагами. Гаврила обернулся и увидел Касьяна Довбню… вернее сказать, его городской картуз, плывущий в облаке дыма над сплошным дощатым забором, за которым стояла высокая изба под железной крышей первейшего в Лужах богатея – Аверьяна Гудымы.
Если по правде, то не такой уж богатей этот Аверьян: в других деревнях имеются мужики и побогаче. Однако, восемь лошадей, одиннадцать коров и множество прочей живности – такого ни у кого в Лужах больше не было.
В начале восемнадцатого выбрали Аверьяна председателем лужицкого совета, но вскорости власть была отдана комбедам, и Аверьян потихоньку стушевался, ушел в тень, хотя без него не решалось окончательно в деревне ни одно дело, а безрукий Митрофан в затруднительных случаях шел советоваться прежде всего к Гудыме, и тот безрукого ни разу не подвел. Умел жить Аверьян Гудыма, умел ладить со всеми.
Продотрядовцы, например, наезжая в деревню, всегда останавливались у Гудымы, он кормил их и поил самогонкой и, может быть, поэтому ухитрился сохранить кое-какую живность. К тому же часть раздал почти сразу после революции вдовам-солдаткам, оставив себе лишь на пропитание, то есть раньше других понял, куда дует ветер, и лишь немногое было сведено со двора в порядке реквизиций. Так не у него одного.
Аверьян первым узнавал о всяких переменах в поведении властей, о новых указах; он откуда-то проведывал о наезде очередного продотряда или волостных активистов, предупреждал остальных, и лужевцы успевали перепрятать хлеб и бульбу и угнать в ближайший лес оставшихся коров, лошадей и прочую скотину.
И в те поры во главе комбеда стоял нынешний председатель сельсовета Митрофан Вулович, потерявший руку в Маньчжурии в четвертом году. Это был тихий и рассудительный мужик, работящий, но какой-то ужасно невезучий: жена у него померла, оставив ему пятерых детей; отец, еще не старый, лежал разбитый параличом; дважды Митрофан горел и дважды же мир отстраивал ему новую избу. Поэтому, хотя он теперь был при власти, завистников не имел. Чему тут, собственно, завидовать! Зато лужевцы могли быть уверены, что однорукий – после всех благодеяний, что сделал ему мир, – против мира не пойдет, своих не выдаст. Пока так оно и велось.
А Гудыма… А что Гудыма? Аверьян Гудыма вчера первым голосовал за Гаврилу Мануйловича, и его голос был решающим.
Касьян подошел, поздоровался с Гаврилой за руку, деловито прохрипел, глядя куда-то поверх гудымовской крыши:
– Ну как там, на мельнице, все в порядке?
– Да вот… собираемся, – безразлично откликнулся Гаврила, подумав про себя: «Черт тя принес, хрипатого! Каждой дырке затычка…»
– Что ж, так и не был там? – настаивал Касьян, теперь заинтересовавшись лошадиной сбруей.
Гаврила даже не шевельнулся, сидел, смоля самокрутку и глядя куда-то вбок.
Не дождавшись ответа, Касьян продолжал:
– Да и то сказать, куды спешить по нонешним временам? Некуды. А с другой стороны, если посмотреть на текущий момент, из волости требуют, чтоб налаживали хозяйство и давали производство, потому как в городах народ голодает… рабочий класс, в смысле, и другой трудящий элемент.
И на это Гаврила ничего не промычал, не проблеял, будто и не с ним Касьян разговоры разговаривал.
Однако секретарь партийной ячейки деревни Лужи знал Гаврилин характер, потому ни удивления, ни обиды не выказал. И потом… в волостном комитете партии недавно всех секретарей партячеек собирали и объясняли, что по нынешним временам, которые характеризуются как бы переходным процессом и этим… как его, черт! – ком-про-мис-сом с частным элементом, надо с этим элементом вести себя соответствующим образом, то есть привлекать его на сторону соввласти и тем самым обеспечивать народ хлебом и другими продуктами. А вот когда соввласть получит полную силу, когда поднимется весь мировой пролетариат, тогда разговоры с частником пойдут совсем другие.
Секретарям прямо указали, чтобы никаких перегибов не допускалось, что за малейшее искривление линии партии и указаний товарища Ленина партия будет наказывать своих членов сурово и беспощадно, невзирая на происхождение и заслуги перед революцией и соввластью.
Касьян, весьма напуганный суровыми предупреждениями, а главное – тоном, каким они были произнесены, заикнулся, чтобы его освободили от секретарства по причине малой грамотности, возрасту, многодетности и желания в ближайшем будущем возвернуться в Смоленск, в железнодорожные мастерские, но ему тем же непреклонным тоном ответствовали, что это еще успеется, что грамотность тут ни при чем, что сейчас, наоборот, партия снимает своих членов с городского… это самое… поприща и направляет в деревню для реализации новой экономической политики и формирования актива, который в ближайшем историческом будущем повернет деревню на социалистические рельсы. Присматриваться к мужику, завоевывать его на сторону соввласти, использовать малейшие противоречия частнособственнического уклона с нарождающимся социалистическим сознанием в пользу последнего, бережно проращивать ростки, чтобы в будущем получить добротные всходы, – вот задача каждого большевика-коммуниста на текущий момент и длительную перспективу.
Так сказали в волкоме партии, чем привели Касьяна в великое расстройство, потому что он почти ничего из сказанного не понял.
Какое такое сознание, какие такие ростки, а тем более всходы, где их искать и как их проращивать? Касьян, хоть тресни, сколько ни оглядывался в своих Лужах, разглядеть ничего похожего не мог. Даже в своих деревенских однопартийцах. Он твердо знал одно: мужик должен пахать, сеять, выращивать и убирать, а потом выращенное и убранное продать, сколь нужно, чтобы купить всякую потребную ему одежу, утварь и это… эти самые орудия труда. Так велось на деревне спокон веку, все было налажено и, по мнению Касьяна, не нуждалось в каких бы то ни было переменах. Земля теперь у мужика есть, а уж мужик сам знает, что ему сажать и сеять на своей земле, и если арбузы, к примеру скажем, в этих краях не растут, так ты хоть какие постановления ни принимай, а они таки и не вырастут, хотя, конечное дело, вещь весьма приятная, особливо в жару да с устатку. Или, опять же, дыни. Тоже овощ хорошая… Или там какая заморская фрукта. Ну не растет она тута – вот в чем загвоздка! А как с житом или с бульбой управляться, с яблонями да крыжовником, так на деревне и так каждый сызмальства знает, и никакого партийного руководства не требуется.