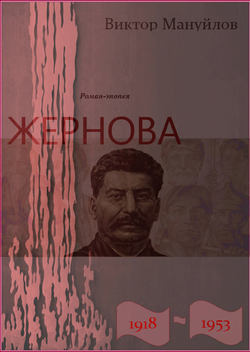Читать книгу Жернова. 1918–1953 - Виктор Мануйлов - Страница 13
Книга первая. Иудин хлеб
Часть 1
Глава 13
ОглавлениеВ то время, когда в столовой в непривычном молчании доедали рыбный суп, двое повернули с Каменноостровского проспекта на Кронверкский. Впереди шагал человек в сером макинтоше и серой же шляпе, неся в руке докторский саквояж. Это был широко известный в Питере врач Манухин. За ним едва поспевал худосочный человек в поношенном драповом полупальто неопределенного цвета, в приплюснутой кепке с пуговкой, из-под помятого козырька которой торчал хищный нос, нависающий над черной кляксой усов, отчего и голова его тоже казалась приплюснутой. Этот второй был довольно известным писателем Чуковским, и не просто писателем, а писателем детским, чьи сказки читались малышам перед сном не только в семьях интеллигентов, но и мещан.
Кронверкский проспект был пуст, если не считать какой-то бабы, пересекающей впереди проезжую часть с коромыслом на плечах. Судя по ее семенящим, шаркающим шагам, ведра были полными. И оба путника подумали, что если и не к счастью, то, по крайней мере, и не к беде.
В прохладном воздухе невидимым огромным камнем весела настороженная тишина. Правда, с Невы иногда доносились рявкающие гудки буксира, да где-то в глубине дворов вдруг остервенело залает собака и так же неожиданно, точно придушенная, смолкнет, но эти звуки даже усиливали тишину, делая ее почти осязаемой. Такую тишину нарушать боязно не только голосом, но даже шарканьем шагов, и доктор с писателем шагали молча, а если случалось шаркнуть на неровности, то тут же испуганно оглядывались по сторонам.
В эту-то болезненную тишину и врезалось вдруг отдаленное тарахтение и чихание приближающегося автомобиля.
Идущие, услыхав эти чужие для тишины звуки, остановились и оглянулись одновременно: действительно, вдали черным жуком катил автомобиль и катил в их сторону. Он был еще далековато, детали рассмотреть невозможно, но любой из этих двоих мог дать сто к одному, что он принадлежит питерской Чрезвычайке.
Манухин, которого Горький спас от неминуемого расстрела за будто бы контрреволюционную деятельность, хорошо знающий город, поскольку частенько ходил по вызову на дом прихворнувших пациентов, не раздумывая свернул – от греха подальше – в ближайшую подворотню. Писатель проворно последовал за ним.
Они втиснулись в нишу под аркой одного из многочисленных доходных домов, прижавшихся друг к другу, настороженно прислушиваясь к нарастающему тарахтению и чиханию.
– Вот ведь штука какая, – полушепотом заговорил Чуковский, нервно похихикивая, стараясь как бы отодвинуть надвигающуюся опасность. – Прячемся мы тут с вами, хотя ничем не провинились перед нынешней властью, а в это время катит в авто какая-нибудь, извините за выражение, баба в коже и высматривает, кого бы ей сцапать и притащить на Гороховую. Неважно, кого…
– Что, страшно? – усмехнулся Манухин, поправляя очки.
– Если честно – даже очень. Черт их знает, этих баб, что им взбредет в голову.
– И этот страх, заметьте, у человека, там не побывавшего. Что же тогда остается мне?
– Вот уж не знаю…
– А вы представьте себе, – вы же писатель! – представьте: машина останавливается, кто-то спрашивает у бабы с ведрами: «Тетка, ты не видела, куда свернули двое?» А тетка им: «Как же, как же! Очень даже видела: вон в ту подворотню». И не успеем мы с вами и шага сделать, как они тут как тут.
– Чур меня! Чур! – закрестился Чуковский с неестественным старанием. – Еще накличете…
– В такое время не знаешь, по какому поводу взывать к Господу богу, а по какому к товарищу Зиновьеву, – глубокомысленно изрек Манухин. Затем спросил: – А что вы думаете об убийстве Урицкого?
– С одной стороны – он этого вполне заслужил, а с другой – это повод для Чрезвычайки, чтобы хватать всех подряд.
– Так какая, извините, нелегкая несет вас к Горькому в такое время? Хотите там отобедать или отсидеться?
– Что вы? Что вы? Я… как бы вам это объяснить? Мне интересно, что по этому поводу думает Алексей Максимыч. Что ни говорите, а Горький – это нечто вроде промежуточного звена, если так можно выразиться, между нынешней властью и властью прошлой. В нем как-то странно все перепуталось. Он мечется между полюсами: на одном полюсе слишком жарко, на другом – слишком холодно. Вы не находите, доктор?
– Я не вхож в круг его почитателей, – неожиданно отрезал Манухин. – И странного в нем ничего нет: человек, волею судеб и таланта вознесшийся над нами, грешными. Если графа Толстого заносило, так что вы хотите от мещанина? В России, кстати сказать, заносит всех литераторов! – с кривой усмешкой заключил Манухин. – И вас тоже занесет когда-нибудь. Если еще не занесло.
– Вы не любите Горького? – спросил Чуковский.
– А за что мне его любить? – пожал плечами доктор. – Да, он выцарапал меня из лап Чрезвычайки. За что я ему чрезвычайно… извините за тавтологию!.. весьма благодарен. Но я его об этом не просил – просили другие. Тем более нам не доводилось говорить на тему, каким звеном является Горький между теми и этими. Я – врач. Я нужен и тем и другим. Если я буду рассматривать своих пациентов с позиций кто за, а кто против, то меня действительно надо расстрелять…
– Извините, доктор, я не собирался проводить некую черту между вами и Горьким… – заволновался Чуковский. – В свое время я не пропускал ни одного номера горьковской газеты «Новая жизнь». Меня поражала отвага, если так можно выразиться, с которой Горький нападал на Ленина и вообще на большевиков. Особенно глядя на прошлое с позиций нынешнего времени. Кем только он не обзывал тогдашнего Ленина: и отравившегося вместе с Троцким гнилым ядом власти, и хладнокровным фокусником, и авантюристом, и безумцем, и рабом догмы – всего и не упомнишь. И что же? Ленин все это стерпел. А Горький? Горький теперь клянчит у Ленина то одно, то другое… Я понимаю, что в этом есть некая необходимость, но я никак не могу соединить все это в лице одного человека. Тем более известного не только в России, но и во всем мире. Поэтому вот иду, чтобы попытаться…
– Что касается меня, – перебил путаную речь писателя Манухин, – то, во-первых, я не читал и не читаю газет, чтобы не отравиться этим, как вы изволите выразиться, гнилым ядом. Для моей профессии это непозволительная роскошь. Во-вторых, мне кажется, что вам, господин писатель, не мешало бы приглядеться внимательнее к самому себе: в вас тоже есть нечто горьковское.
– Ну, это вы, доктор, пожалуй, перегнули! – протестующее воскликнул Чуковский и даже выдвинулся из ниши наружу, чтобы лучше видеть своего нечаянного собеседника. – Я не считаю себя гением! – воскликнул он. – Детский писатель и гений – категории несовместимые. Но Горький!.. Чем больше я его наблюдаю, тем больше во мне крепнет уверенность, что он малодаровит, внутренне тускл, несложен, элементарен. Иногда вообще кажется человеком глупым, недалеким. Он ничего не понимает в действительной жизни, не разбирается в людях, его окружающих Надуть его ничего не стоит. И его таки надувают. И вообще он человек весьма слабохарактерен, легко поддается чужому влиянию. Сперва влиянию Андреевой, которая втянула его в большевики, теперь шайке прилипал, окруживших его плотным кольцом…
– По-моему, господин писатель, вы и сами мелете чепуху, – перебил Чуковского Манухин. – Мне довелось – в силу своей профессии, разумеется, – общаться со многими писателями и поэтами. Не буду перечислять их имена. Так вот, все они, извините за выражение, слегка глуповаты. Читаешь стихи, рассказы, повести или романы тех или иных весьма известных писателей и… и плачешь от изумления, как верно талант может воссоздать в своем воображении чью-то трагедию или нечто противоположное, но тоже из ряда человеческих страстей. А потом встретишь самого писателя, раз и другой-третий, и уже начинаешь изумляться, как этот, довольно серенький человечек сумел подняться до таких вершин человеческого духа. Не помню точно кто, кажется, Алексей Толстой, сказал, что настоящий писатель должен быть по-настоящему талантливым, а разум ему необходим исключительно для того, чтобы контролировать свой талант, не давать ему вести себя наподобие необъезженного скакуна. Так что, любезнейший, не судите, да не судимы будете…
В эти мгновения тарахтение автомобиля достигло наивысшей громкости, что заставило Чуковского поспешно втиснуться в нишу, и оба замерли в ожидании неизвестно чего.
Прошло еще несколько мгновений – автомобиль стал удаляться, и вновь установилась настороженная тишина.
– Что ж, пойдем? – произнес Манухин не слишком уверенным голосом.
– А если они остановились и ждут? – забеспокоился Чуковский. – Или расспрашивают бабу с ведрами, куда делись эти двое?
– Если остановились и ждут, значит, схватят нас и расстреляют.
– Типун вам на язык… Извините, доктор, за грубое выражение…
– Ничего: и не такое доводилось слышать. Тогда идемте: не стоять же нам тут до ночи. Да и пациент меня ждет. А у него, между прочим, цирроз печени.
Они покинули нишу, выглянули – проспект в обе стороны был абсолютно пуст.