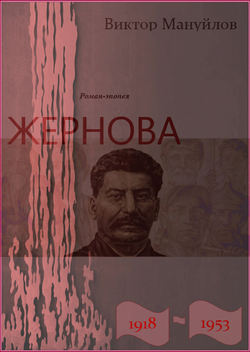Читать книгу Жернова. 1918–1953. Книга четвертая. Клетка - Виктор Мануйлов - Страница 17
Часть 13
Глава 17
ОглавлениеПакус умирал долго. Он то приходил в сознание, то впадал в забытье. Тела он почти не чувствовал, оно занемело, но когда испражнялся под себя, испытывал беспокойство: ему все казалось, что его вот-вот найдут, а от него несет, и люди будут отворачиваться от него с презрением. Хотя над ним, над самым лицом его, все время неподвижно висели ядовито-зеленые ветви молодых пихт, и сквозь них ничего нельзя было разглядеть – лишь рваные лоскутки неба, чудились ему, между тем, то звезды на темном небе, то яркое солнце, и казалось, что миновало уже много-много дней, как оставил его здесь Плошкин, и впереди еще тоже много дней, а где-то совсем рядом ходят люди, но он не может дать им знать, что лежит от них всего в нескольких шагах.
Иногда Пакусу чудились голоса и казалось ему, что если бы Плошкин оставил его на поляне, тогда бы все было не так: его бы нашли, отвезли в больницу, вылечили бы и освободили. Ведь ему еще не так уж много лет, он слишком мало успел сделать, и никто никогда не узнает, что жил на свете такой Лев Борисович Пакус, еврей из Молодечно, никто не придет на его могилу…
Иногда сознание его настолько прояснялось, что ему начинало казаться: одно усилие – и он встанет на ноги. Но ни руки, ни ноги не шевелились, он их просто не ощущал. Тогда он пытался вспоминать прошлое, стараясь найти в нем что-то, за что можно было бы зацепиться мыслью, но перед его взором проплывали одни лишь разрозненные картины да невпопад вспоминались строки из когда-то написанных им стихов.
И чаще всего вот эти, выплеснувшиеся на бумагу еще в двенадцатом, когда он с товарищами по социал-демократической рабочей партии бежал из России в Австро-Венгрию, наткнулся на пограничную стражу и, отстреливаясь, убил одного из них:
Сломанный луч… Торжество и отчаянье…
Землю скрести, собирая в горсти…
Лучше, когда убивают нечаянно,
Выплюнув пулю из собственной пасти…
И еще Пакус в минуты просветления мучительно пытался понять, каким образом очутился здесь, под этими зелеными ветвями. Ему казалось, что если бы он не был евреем, то все обернулось бы по-другому. Сколько раз в своей жизни в его голове возникало это «если бы». Сколько раз в его жизни обстоятельства бросали ему в лицо оскорбительное: жид, юдэ, хотя что же в том оскорбительного, если тебе в нос тычут твою национальность?! И все же он был будто виноват в том, что родился евреем, что далекие предки его что-то там не поделили с другими народами и потому были изгнаны со своих земель, что из-за этого они затаили злобу и ненависть ко всему миру и неизбывное желание отомстить когда-нибудь за свои унижения, а чтобы как-то оправдать изгнание, свою ненависть и желание мести, придумали сказочку про бога израильского, который был к ним то благосклонен, то карал за отступничество.
Даже в многонациональной среде революционеров Пакус чувствовал на себе эти изучающие, часто недоверчивые взгляды: "А не для себя ли вы так стараетесь, господа иудеи? А не специально ли раскачиваете вы человеческий корабль, чтобы самим потом занять капитанский мостик?" Вот и Марксу пришлось придумывать версию о так называемом еврействе как порождении социальных отношений, хотя Маркс и не был евреем, то есть не считался им, ибо не был рожден еврейкой.
Даже Ленин, всегда лояльный к евреям, и тот несколько раз сбивался в полемике с евреями-партийцами на их национальные особенности. Потому-то Пакусу и другим его соплеменникам надо было лезть из кожи вон, чтобы доказывать чистосердечие своих помыслов и поступков, все время держаться на нервах, в напряжении ума и душевных сил, и… и отдыхать душой и телом в своей среде, где не было ни эсеров, ни меньшевиков, ни большевиков, ни рабочих, ни буржуев, а были одни лишь евреи.
Впрочем, в последние годы и там – уже по привычке – обходили острые вопросы своего бытия среди других народов, если в их среду не попадал человек, для которого революции были лишь частью его бизнеса, способом заработать на чужой доверчивости, как напоминание о таинственном прошлом, сотканном из легенд и мифов.
И в двадцатых, еще при Троцком, они продолжали встречаться у кого-нибудь дома, тоже только свои, и делали это не то чтобы тайно, но и не явно, хотя и в ЦК партии, и в любой большой партийной организации вполне официально существовали еврейские фракции, призванные защищать интересы евреев как в самой партии, так и вне ее. Фракции эти не отменили до сих пор, хотя в открытую они уже не собирались. И душой, как раньше, отдохнуть не могли: что-то держало в напряжении, смех и шутки звучали деланно, а некоторых вопросов вообще старались не касаться, хотя эти-то вопросы и были решающими в судьбах не только России, революции, социализма, но и еврейства.
И тянется это с самого детства. Только в детстве его, как и других еврейских мальчишек, согревала внушенная родителями и раввинами исключительность, богоизбранность их народа. Да и какую б душу мальчишки какого другого народа она не согрела бы в ту пору, когда мир только-только раскрывается перед неокрепшей душой, а взрослые уже на своем опыте знают, что этот мир жесток, и жесток он особенно к евреям, и надо эти души закалить, прежде чем они отправятся в самостоятельное странствие, надо вложить в еврейскую душу нетленный огонек своей особливости, презрения к другим народам и способность никого в себя не пускать, ибо душа еврея принадлежит богу и народу Израиля.
Пакус рано разуверился в израильском боге. Вместе с тем чувство национальной исключительности и избранности в нем продолжало жить, хотя он научился это чувство прятать не только от других, но и от самого себя. Потом были эмиграция, встречи с западными евреями, называемыми сефардами, имеющими совсем другое представление о своем месте в обществе и относящимися к евреям восточным, то есть к ашкенази, с едва скрытым презрением и опаской.
А еще вспоминались первые допросы почти сразу после ареста, то есть после того, как врач сумел вытащить его, Пакуса, с того света, и желание следователя, – между прочим, еврея же, – выяснить, к какой такой тайной еврейской организации принадлежит Лев Борисович Пакус, где находится ее центр, откуда она берет деньги и какие у нее намерения относительно советской власти и лично товарища Сталина, и показывал брошюрки и прокламации сионистского толка, напечатанные явно не в России. Следователь вменял в вину Льву Борисовичу замаскированный троцкизм и сионизм, что он, будучи следователем по особым поручениям секретного политического отдела ОГПУ, который возглавлял Яков Саулович Агранов, в своей деятельности подрывал экономические и политические основы советской власти. Все эти обвинения были чушью, но другими они и не могли быть.
Из Твери Пакуса, уже сломленного пытками, привезли в Москву, на Лубянку. И здесь следователь тоже оказался евреем, даже довольно близким приятелем Льва Борисовича, – они не раз встречались семьями. Впрочем, существовало негласное правило, по которому арестованных евреев разрабатывали следователи-евреи же, чтобы не возникало подозрений, будто в этой разработке присутствует антисемитизм. На всех других это правило не распространялось: всех других могли вести не только все другие же, но и евреи. Считалось, что они-то уж точно свободны от националистических предрассудков. Так вот, и этот следователь, бывший приятель Пакуса, гнул ту же самую линию, и Пакус догадался, что это не случайно, что где-то что-то произошло, и это как-то связано с сионизмом, зародившемся на Западе, но оказавшемся особенно активным и воинственным на Востоке.
Сейчас, когда смерть стояла в изголовье, Пакус испытывал лишь горькое сожаление, а с чем оно было связано, доискиваться не пытался. Он и вообще-то не мог ни на чем сосредоточить свою мысль, лишь разрозненные картины из прошлой жизни проплывали перед глазами и тонули в зеленом сумраке пихтача. Между тем он отчаянно пытался удержать их перед собой и что-то спросить у тех, кто населял эти картины. Однако тени прошлого редко задерживались перед его мысленным взором, а их ответы были сумбурны и малоубедительны.
И вот наступил момент, когда прошлое перестало отвечать ему на его вопросы даже ничего не значащими и не связанными друг с другом словами: оно, это прошлое, отделилось от Пакуса, стало существовать само по себе, а он и эти ядовито-зеленые ветви – сами по себе. И так, видимо, было всегда. И мысль об этом принесла умиротворение и, как ни странно, надежду.
Пакус умер на четвертые сутки. Неподалеку от него лежал труп убитого им беглого зэка, притащенного сюда предусмотрительным Плошкиным. От зэка изрядно пованивало, с той стороны слышался писк, рычание и какая-то возня, но Пакус, даже еще живым, ничего не слышал и не чувствовал.
* * *
Плошкин вернулся на заимку, когда солнце перевалило за полдень. Он не стал слушать ничьих объяснений, с первого взгляда догадавшись, что здесь произошло, а подробности его не интересовали. И сам он ничего объяснять не стал, сказав лишь, что жида больше нету и бояться нечего.
При этом сообщении Каменский побелел и съежился.
Но особое впечатление на всех произвела винтовка, чудесным образом оказавшаяся у бригадира, и все посматривали на нее с благоговением и страхом, а на самого Плошкина так, будто он и не Плошкин вовсе, а маг и волшебник.
Между тем Сидор Силыч, вернув своему голосу повелительные нотки, не терпящие возражений, приказал всем плотно поесть, сам поел вместе со всеми, потом велел разуться, осмотрел ноги, портянки и носки, у кого они были, заставил обуться по-походному, после чего собрались, почистили окрестности от всяких следов своего здесь пребывания, обложили избушку хворостом и подожгли, выплеснув на ее стены остатки керосина.
Избушка занялась весело, горела почти без дыма. Постояли поодаль с минуту, мысленно простившись с прошлым, и пошли.
Через пару часов беглецы перевалили первую гряду сопок, с высоты которых им открылась необозримое море тайги, с проплешинами гольцов и скал, зеленых лужаек, мрачными провалами, разделяющими сопки.