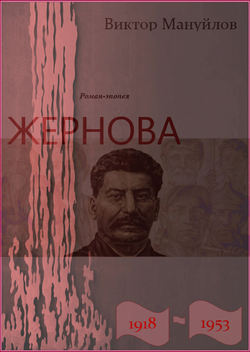Читать книгу Жернова. 1918–1953. Роман-эпопея. Книга пятая. Старая гвардия - Виктор Мануйлов - Страница 13
Часть 16
Глава 13
ОглавлениеВасилий Мануйлов стоял в плотной толпе, заполонившей просторный сборочный цех. На кран-балке было кое-как закреплено красное полотнище с белыми словами по нему: «Никакой пощады врагам рабочего класса и революции!» Под красным полотнищем наскоро сколоченная трибуна. На ней директор завода, парторганизатор, председатель профкома, еще какие-то люди. На крюке кран-балки подвешена люлька, в ней двое с кинокамерой. Один крутит ручку, другой размахивает руками, командуя крановщицей. Кран-балка то движется, то замирает над сдержанно гудящей толпой.
– Товарищи! – выкрикивает с трибуны какой-то высокий и худой работяга в черной спецовке, фамилию которого Василий не разобрал. – Мировая буржуазия в лице мирового капитала гнетет рабочий люд всех стран! А всякие недобитые буржуи у нас в стране ведут подрыв нашей работы на благо трудящихся и Красной армии! Эти буржуи убили товарища Кирова, теперь они хотят убить остальных наших товарищей, которые день и ночь руководят социалистическим строительством. Никакой пощады недобиткам! Мы, рабочие революционного Питера, твердо стоим на позициях большевиков и товарища Сталина! Смерть буржуям! Да здравствует товарищ Сталин, вождь мирового пролетариата и трудящихся всех стран! Фашистским предателям Каменеву и Зиновьеву не сидеть на нашей рабочей шее!
Толпа ответила на его призыв дружными хлопками. Работяга отер зажатой в кулаке кепкой взопревшее лицо и шагнул назад, уступая место другому оратору.
Кто-то за спиной Василия произнес изумленно и опасливо:
– Слышь, Серега! А ведь это никак Димка Ерофеев выступал? Помнишь, на рабфаке с нами учился?
Ему отвечал еще более опасливый и приглушенный голос:
– Да ты что! Димку ж посадили, пять лет дали.
– Точно тебе говорю: Димка! Значит, отпустили.
– И, правда, – очень похож. Только постарше выглядит.
– Там, небось, не курорт – не помолодеешь… Но он, помнится, не то на Путиловском работал, не то еще где, только не у нас…
– Так что, подойдем?
– Можно, конечно, только… когда же? Перерыв вот-вот кончится.
– А после работы?
– Так ведь в институт надо…
– Боишься, что ли?
– Чего бояться-то? Впрочем, радости особой не испытываю. Отпустили его или нет, а что сидел – это точно. За просто так гепеу не сажает. С такими лично мне знаться не с руки. Не забывай, что мы с тобой подали заявление в партию…
– Ладно, чего уж!
Василию хотелось обернуться и посмотреть на парней, разговаривавших у него за спиной: не исключено, что он знал этих парней по рабфаку. Но он не обернулся: еще подумают, что подслушивал их разговор. Но что он знавал когда-то Димку Ерофеева – это уж точно. Как точно и другое: Димка работал на Путиловском. Но не по заводу Василий знал Ерофеева, и не по рабфаку, а по поездке в Москву молодых ударников трудового фронта. Еще три года назад. В поезде познакомились. Потом иногда виделись случайно: «Красный путиловец» – заводище огромный, столовых – и тех несколько, так что можно десять лет проработать рядом и ни разу не встретиться. А о том, что Димку посадили, Василий не знал. Узнал только сейчас из опасливого разговора за своей спиной. Значит, эти двое учатся и боятся, что знакомство с Димкой может им повредить. Но если Димка выступает с трибуны, если ему доверили такое дело, значит, он ни в чем не виноват, а эти дурачки, хотя и учатся в институте, додуматься до такой простой вещи не способны. То-то же из них инженеры получатся…
Василий сжал челюсти до боли в деснах: оказывается, еще саднит в его душе рана, нанесенная исключением с рабфака, а он-то думал… Что до этих двоих – так даже стоять с ними рядом противно.
И Василий стал протискиваться вперед, поближе к трибуне: уж он не испугается встречи с Димкой Ерофеевым, не побоится подать ему руку. ГПУ – оно тоже ошибиться может, в нем тоже люди сидят, а люди – они разные. Да и терять Василию нечего.
Выступала какая-то женщина. Она сорвала с головы вылинявший ситцевый платок, размахивала им, как флагом, выкрикивала звонким голосом гневные слова. Да только Василий не прислушивался: все ораторы говорят одно и то же, а люди в этой толпе думают по-разному. Вот и эти двое: они вроде и не против подойти к Димке, да смелости не хватает. Так и будут с оглядкой идти по жизни. Что же касается Зиновьева с Каменевым, так Василию как-то все равно, что с ними будет: посадят их или расстреляют. И не важно, контрики они или настоящие революционеры: и те и другие сидят на шее рабочего класса. Да еще и погоняют.
Василий высматривал Димку, но пока протискивался поближе, Димка Ерофеев пропал из виду: ни на трибуне, ни около его не видно. А на трибуне какой-то мужик уже зачитывал резолюцию митинга. После зачтения все подняли руки за эту резолюцию, потом похлопали. И стали расходиться. Отправился и Василий в свой модельный цех.
Василий на собраниях, митингах и демонстрациях уже не испытывал того восторга, какой охватывал его когда-то на первомайских и октябрьских демонстрациях, на всяких антибуржуазных и антирелигиозных акциях. Горькое равнодушие это начало в нем утверждаться с того дня, когда его не приняли в комсомол, унизили при всех и оскорбили. Окончательно равнодушие поселилось в нем после вторичного изгнания с рабфака. Иногда ему казалось, – особенно в те минуты, когда в общем людском потоке подходил к заводской проходной, – будто он долго бежал вместе со всеми куда-то, где всех ожидает интересное, захватывающее зрелище, какие случались иногда в деревне, когда в нее забредали цыгане и начинали гадать, продавать всякие диковины и показывать фокусы с ручным медведем. Мальчишкой, пыля босыми ногами, он несся в центр деревни, где стоял большой дом Аверьяна Гудымы, вместе с другими пацанами и девками отирался возле цыганских кибиток, глазел на чужую жизнь, и никто не гнал его оттуда и не мешал глазеть. А тут… Тут толпа как бы устремилась в огромные ворота, но Василия в ворота не пустили: оказывается, не для него те зрелища, которые обещали им за воротами. Теперь там шум и гам, там весело, а здесь, в подворотне, скучно и тоскливо, каждый бродит сам по себе, никому друг до друга нет дела. Что ж, раз так, то и ему, Василию, тоже ни до кого нет дела.
И вот прошло не так уж много времени и оказалось, что можно жить и без тех зрелищ, что обещали всем и каждому, если стать частью передовой массы рабочих и крестьян. И он, Василий Мануйлов, честно пытался стать этой частью, но какие-то непонятные силы его отвергли… Ну и пусть. Не очень-то и хотелось.
И все-таки, как ни старался Василий убедить себя, что ему все равно и на все наплевать, он чувствовал за собой вину, что согласился когда-то с одноруким Митрофаном убрать из своей фамилии две последние буковки, стать из Мануйловича Мануйловым и тем самым посеять в душах людей сомнение в своей честности и честности своих желаний. Что там ни говори, а не хватало Василию полной слитности с другими, в своем одиночестве он казался себе не только беспомощным и слабым, но и опустошенным. Даже женитьба на Марии представлялась ему следствием постигших его несчастий, как бы завершающим штрихом его падения с тех высот, на какие он стремился взлететь.
Может, поэтому случалось не раз, когда подходил он к заводской проходной в густой толпе рабочих и, заметив, что на проходной случилась какая-то заминка, начинал испытывать неуверенность и тревогу: вдруг вахтер остановит его, посмотрит внимательно пропуск и скажет: «А тебя, парень, пускать на завод не велено: ты не наш, чужой, иди на все четыре стороны», – и он отойдет в сторону и примкнет к сиротливой кучке отверженных, мимо которых будет течь и течь равнодушная человеческая река.
Эта картина нового позора и унижения частенько снилась Василию по ночам.