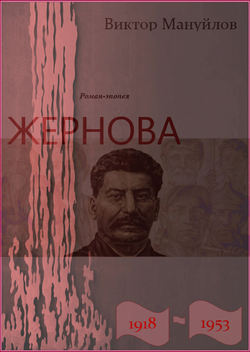Читать книгу Жернова. 1918–1953. Роман-эпопея. Книга пятая. Старая гвардия - Виктор Мануйлов - Страница 9
Часть 16
Глава 9
ОглавлениеПинзур и Коротеев пришли в школу к последнему уроку. Стуча палкой по деревянному полу, вытертому ногами до белизны, Коротеев едва поспевал за стремительной Пинзур, от входных дверей решительно направившейся прямо к директорскому кабинету. Директора оба знали давно: он тоже был старым партийцем, но не большевиком, а эсэром; когда же большевики партию эсэров разогнали, остался вне партий и подвизался на поприще просвещения новых поколений. Это в его школе совсем недавно пропагандировались свобода любви и половых отношений, застенчивым мальчикам и девочкам рекомендовался онанизм, как средство восстановления равновесия с природой; это он воспитывал подрастающее поколение в духе отвращения к делам своих предков, потому что дела эти были освящены средневековым невежеством, великодержавным шовинизмом и поголовным рабством; это здесь с особенной яростью нападали на устои семьи и брака; это здесь доказывали, что человек должен быть свободен от всего, что мешает ему нести революцию во все страны мира, в том числе очищение от буржуазной морали.
Но за директорским столом сидела совсем незнакомая им женщина, молодая, коротко остриженная по моде, в черном жакете и белой блузке. Она подняла голову и уставилась на вошедших.
– Вы ко мне? – спросила она.
– Мы к Иосифу Давидовичу, – ответила Пинзур.
– Иосиф Давидович здесь уже не работает, – произнесла женщина извиняющимся тоном. – Теперь я директор школы.
– Вот как! – воскликнула Розалия Марковна. – И куда же подевался Иосиф Давидович?
– Не знаю. Спросите в районо.
– И спросим. А пока скажите нам, в каком классе мы можем провести беседу по текущему политическому моменту? Я бы сказала – безобразному моменту! – воскликнула Пинзур.
– Простите, а вы кто? – спросила женщина, поднимаясь из-за стола.
– Мы представители обществ политкаторжан и старых большевиков. Вот это – старый большевик товарищ Коротеев! Он стоял у истоков образования РСДРП! Он более десяти лет провел в царских тюрьмах и на каторге! Я – тоже революционерка со стажем, зовут меня Розалия Марковна Пинзур. Мы посланы к вам от имени старых большевиков и политкаторжан.
– Мне очень приятно познакомиться с вами, но я ничем не могу вам помочь. То есть, простите, – смутилась директор, – не могу воспользоваться… то есть использовать вас в качестве политинформаторов. Дело в том, что поступила инструкция из районо, чтобы все, кто приходит в школу, имели официальное направление от районо или от райкома партии. Если у вас нет такого направления… И потом, политинформации мы проводим… то есть, проводили сами. Раз в неделю, – пояснила она. – Но с этой четверти политинформации заменены историей СССР и мира… Разве вы об этом не знаете?
Розалия Марковна фыркнула:
– Докатились! Заслуженных революционеров уже не пускают на порог советской школы! И вам не стыдно, товарищ директор?
– Мне не стыдно, – нахмурилась молодая женщина. – Я на работе, а на работе надо выполнять те инструкции, которые спускаются из вышестоящих органов. И лично у меня нет никаких оснований быть недовольной этими инструкциями: они мне кажутся вполне разумными.
– Ась? – направил в ее сторону слуховую трубку Коротеев.
– Я говорю, что…
Но Пинзур взяла Коротеева под руку и прокричала ему в ухо:
– Нам тут делать нечего! Мы им не угодны! Им не нужна революция! Им нужно мещанское счастье! Пойдемте отсюда! Здесь воняет клопами!
И потащила упирающегося и ничего не понявшего Коротеева вон из кабинета.
Директор смотрела им вслед, и на ее круглом милом лице растерянность и недоумение сменились жалостью к этим пожилым людям, почему-то напомнившим ей ходоков из некрасовского стихотворения «У парадного подъезда». В школе, где она до этого работала завучем, тоже бывали представители старых большевиков и политкаторжан, и она не видела ничего зазорного в их посещениях, в их пропаганде революционных идей, хотя это как-то не вязалось с заветами лучших представителей русского учительства, которые ориентировали педагогов на воспитание у своих питомцев восприятие окружающего мира во всей его красоте и полноте; это не вязалось, наконец, с детской психологией, с их еще не окрепшими душами, которые должны тянуться к добру и свету, а не к борьбе, к жестокости и забвению лучших народных традиций, создававшихся в течение веков.
Вздохнув, директор школы подошла к окну, отодвинула занавеску и дождалась, когда странные посетители покажутся во дворе школы. Она смотрела, как женщина размахивает руками и что-то пытается доказать своему тугоухому товарищу, как тот трясет и качает головой, и уши зимней шапки мотаются из стороны в сторону. Потом они вышли на улицу и побрели среди сугробов снега, такие жалкие и такие беспомощные.
И пошли они, солнцем палимы,
Повторяя: «Суди его бог».
И покуда я видеть их мог…
Новый директор школы и сама не очень-то разбиралась в том, что происходит в ее стране на ниве образования. Она не понимала, почему так часто меняются программы и учебники, к тому же многие из них написанные таким суконным языком, что от чтения их сводит скулы. Однако она верила, что все происходящее правильно и имеет прямое отношение к революции и коммунизму. Именно эту точку зрения им настойчиво внушали в университете на курсах повышения квалификации после того, как была принята новая учебная программа, в которой история СССР соединялась логической нитью непримиримой борьбы классов с историей России и всего мира, а преподаватели, стоящие на позициях отрыва одного от другого, были уволены и некоторые даже отданы под суд за троцкистские взгляды и связи с контрреволюцией.
* * *
Двухэтажный дом старинной постройки, некогда принадлежавший купцу второй гильдии, затерялся в переплетении улочек и переулков между Никитской и Поварской, среди дровяных сараев и конюшен. В этом доме держал целый этаж отец одного из членов Цека партии большевиков. Сюда уже по темну собирались члены еврейской секции Цека, взбудораженные решением Политбюро о ее ликвидации. Приходили по одному с интервалом в несколько минут, подняв воротники и надвинув на глаза шляпы и шапки. Одни стучались в дверь парадного подъезда, другие – черного хода. Уж здесь-то точно никто не мог подслушать, о чем они собирались говорить.
Ранний зимний вечер давно перешел в ночь, в зале топилась печь-голландка, трещали в ней березовые поленья. Посреди большого полукруглого стола возвышался огромный двухведерный самовар, шипел пар, пованивало угарным газом, из краника капало в чашку. За столом сидели люди, давно знающие друг друга. Сидели и молчали. Ждали еще двоих: председателя еврейской секции и секретаря. А их все не было и не было. И это вселяло во всех тревогу и неуверенность.
Секцию собирались прикрыть давно, еще при Ленине, и на том основании, что теперь все нации равны, что во времена царизма страдали не только евреи, но и представители других народов, следовательно, деление членов партии следует осуществлять не по национальностям, а по преданности партии, ее идейным установкам, духу марксизма-ленинизма. Но Ленин умер, и окончательное решение как бы повисло в воздухе. Однако раньше или позже вопрос этот должен был возникнуть вновь. И он возник, как только Сталин вошел в силу, избавившись от Троцкого, а за ним от Зиновьева с Каменевым и их сторонников. Все они оказались за порогом большой политики, и еврейская секция перестала оказывать решительное влияние на работу Политбюро и Цека, хотя в процентном отношении евреев там и там меньше не стало. Зато стало больше других евреев, не связанных ни с Троцким, ни с Зиновьевым-Каменевым. Более того, процесс этот, судя по всему, имел тенденцию к развитию, это-то и вселяло тревогу за будущее, ради которого они пошли в революцию, вели борьбу и так далее и тому подобное.
И вот они сидели и молчали. Но не потому, что нечего было сказать. Вовсе нет! А исключительно потому, что никто из них не был уверен, что его слова не станут сегодня же известны на Лубянке со всеми вытекающими отсюда последствиями.
На стене висели большие часы в резной деревянной коробке с ангелочками, цветочками и прочей дребеденью. За стеклянной дверцей мотался из стороны в сторону маятник в виде коня тяни-толкая о двух головах, но без единого хвоста. Время от времени раздавалось странное жужжание, затем звучал мелодичный перезвон, а вслед за этим колокол отбивал либо одним ударом каждые тридцать минут, либо соответствующим количеством каждый час.
Они сидели и смотрели в стол, думая о своем. Кто-то вертел на холщевой скатерти чайную чашку или блюдце, кто-то с деланным интересом разглядывал чайную ложку с замысловатой чеканкой. Самовар продолжал скулить, пищать и свистеть, но с каждой минутой все тише и тише. И людьми одолевало ощущение, что они ждут чего-то такого, чего нет и не может быть уже никогда. И тогда один из них, лет эдак пятидесяти, с черной в проседи бородкой, с гладкой лысиной чуть ли ни до самого затылка, откинулся на спинку стула, оглядел собравшихся насмешливыми глазами и спросил:
– Так какого черта мы ждем, дорогие товарищи? И зачем вообще нас сюда собрали? Мы что – желаем что-то изменить в череде закономерных, так сказать, событий? Если кто-то имеет такое желание, так пусть объяснит нам, в чем его суть. Лично у меня возникает убеждение, что мы собрались сюда на похороны и ждем, когда появится покойник. Что касается лично меня, то я ждать не хочу. Хотя бы потому, что покойники имеют дурную привычку увлекать за собою живых. Те, кого мы ждем, здесь уже не появятся. Они лучше нас понимают, что время неумолимо движется в одном направлении. И всякое даже предположение, что оно может хотя бы на миг остановиться, глупо само по себе. Посему я предлагаю разойтись и двигаться дальше вместе со всеми. А там, как говорится, что бог даст.
И человек этот поднялся и направился в прихожую. Было слышно, как он кряхтит и топает, пытаясь втиснуть ботинки в галоши, затем хлопнула дверь в коридор, еще одна на первом этаже. И все стихло. Но больше никто не шелохнулся.
Тогда вскочил самый молодой из них и заговорил, брызжа слюной от возбуждения:
– Лично я целиком и полностью поддерживаю товарища Сталина в этом вопросе! Да! Потому что времена, когда мы, согласно легенде, считали себя избранным народом, эти времена давно миновали! Да! Мы такие же, как и все. Да! И не смотрите на меня так! Многие настоящие партийцы полагают, что пора присоединиться к ассимиляции. В том смысле, что поставить этот процесс на практическую почву. Исходя из этого, заявляю со всей решительностью, что ждать никого не буду, у меня хватит ума и истинной партийной принципиальности твердо стоять на коммунистической позиции, а не плестись в плену у библейских сказок, которые были рождены невежеством наших предков.
Молодой человек, махнув рукой, тоже кинулся в прихожую, споткнулся о половичок, но удержался и скрылся за дверью.
И все сразу же засуетились и тоже устремились вон из комнаты.
– Товарищи! Товарищи! – взывал к ним хозяин квартиры. – Ради бога – не все сразу! И так соседи могут подумать бог знает что…
Однако товарищи никак не реагировали на призывы хозяина, торопливо натягивали на себя шубы и пальто на ватине, всовывали ботинки в галоши, топали, сопели и кидались вниз по лестнице, будто, промедли они хотя бы минуту, за ними непременно кто-то погонится. Иные так даже перекладывали револьвер из внутреннего кармана в наружный: время позднее, район весьма неблагополучный в смысле уголовной преступности, так что револьвер может оказаться весьма к стати.