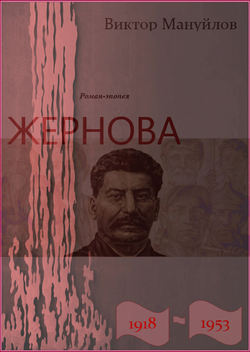Читать книгу Жернова. 1918–1953. Роман-эпопея. Книга пятая. Старая гвардия - Виктор Мануйлов - Страница 15
Часть 16
Глава 15
ОглавлениеВесна в Ленинград не спешила. Весь апрель держались холода, майские праздники встречали со снегом, ежась от пронизывающего северного ветра. Только к середине мая потеплело, повеяло парной влагой с запада, нагнало туч, зарядили дожди. Но вот уж скоро июнь, а летом что-то не пахнет, хотя и трава зеленеет, и листва на деревьях шумит, и ландыши продают на углу Светлановского и Карла Маркса.
Василий Мануйлов сегодня на завод приехал пораньше: вчера не успел закончить срочную модель корпуса гидронасоса, потому что в чертежи к концу смены внесли кое-какие изменения, так что пришлось в двух местах наращивать уже практически готовую модель, возился до десяти вечера, на сегодня осталось немного, обещал начальнику цеха закончить модель к обеду и сдать в ОТК.
Василий торопился. Не дожидаясь остановки трамвая, соскочил с подножки, зашагал к проходной, испытывая то знакомое нетерпение и волнение, которое всегда сопутствует завершению сложной работы. Вроде бы уже нет для него секретов в его профессии, вроде бы должен привыкнуть к своему делу, а все будто в первый раз: и волнение перед сдачей в ОТК, и тревожный сон, и сожаление, что дело сделано и уходит из твоих рук навсегда.
Завод, как живое существо, на глазах у Василия отряхивался от ночной дремы. Из высокой трубы, до этого едва курившейся, повалил черный дым и поплыл в сторону Невы; в литейке и других цехах взвыли вентиляторы, из распахнутых настежь ворот плавильни потянулась жиденькая цепочка рабочих ночной смены: натруженные руки висят плетьми, сутулятся спины, шаркают подошвы; воспаленные до красноты глаза, серые под ними тени, рты кривятся и раздираются от судорожной зевоты, и даже настырный сырой ветер не может стряхнуть с них тяжелой одури усталости и наваливающегося сна.
Василию хорошо известно это состояние полного равнодушия ко всему окружающему, когда ничего не хочется, глаза не способны видеть, уши – слышать, и властвует над тобой одно единственное желание – ткнуться головой в подушку и спать, спать, спать… Василию известно это состояние, но испытывает он его не так уж часто: модельщики работают в одну смену, потому что работа требует особой точности руки и глаза, свежей, не замутненной усталостью и дневными заботами головы.
Пробовали и у модельщиков ввести двухсменку, да вскоре отказались от этой затеи: пошел брак, получилось не ускорение производственного процесса, а явное замедление. Даже гэбэшники занимались этим делом, искали, не по злому ли умыслу совершили такое начальники, нет ли тут какого заговора, и не из желания ли воспротивиться этому новшеству сами рабочие стали на путь саботажа? Долго разбирались, таская в заводоуправление на допросы то одного, то другого, но закончили тем, что сняли директора завода да пару спецов из отдела главного технолога. Говорят, посадили.
Впрочем, Василий тогда работал еще на «Красном путиловце» и заварушку эту на собственной шкуре не испробовал. Но помнит, что и на Путиловце поговаривали о введении у модельщиков двухсменки, да так и не ввели: видать, учли опыт Металлического завода, оказавшегося пионером в этом деле. Так что у Василия вторая смена выходит лишь в тех не слишком частых случаях, когда требуется изготовить какую-то модель особенно срочно. Но это уже даже и не вторая смена, а сразу две подряд. И ничего, ни разу брака не допустил, ни разу не подвел свое начальство. Ну и себя тоже, разумеется.
Переодевшись в гулкой и сонной тишине раздевалки, Василий пришел в цех, где тоже было гулко от безлюдья. И сонно.
Василию с некоторых пор особенно нравится работать в полном одиночестве, когда ничто не отвлекает от дела. А когда дела нет или оно требует лишь механически повторяемых движений, тогда сами по себе в голове возникают до того широкие мысли, что становится жутковато от их упорного стремления к отысканию истины. Конечно, мысли приходят не сами по себе, а чаще всего от прочитанной книги, от сравнения жизни героев этих книг с жизнью собственной и окружающих тебя людей, но это не главное, главное – что они приходят. Жизнь книжная и похожа на твою, и не похожа, но тревожит она не меньше собственной. Оказывается, другие люди, в других местах испытывают то же самое, что и Василий, мучатся теми же муками, что и он сам. И странно находить в книгах что-то похожее на себя, иногда до изумления и испуга, будто писатель подслушал твои мысли, распознал твои чувства.
Затем, как обычно, мысли Василия от прочитанного переходят на свою собственную жизнь, и от этой своей жизни становится не по себе. Вот он лез в гору и лез, и такое испытывал состояние при виде открывающихся перед ним далей, что, казалось, еще немного подняться – раскинешь руки и полетишь. А потом… Мало того, что сорвался и скатился вниз, так внизу – вдобавок ко всему – его спеленали и обрубили крылья, и теперь не то что взлететь, а не скатиться бы на самое дно…
Василий мелкими движениями стамески снимает тонкую, как бумага, стружку, и постепенно из куска дерева, приклеенного к стенке корпуса, вырисовывается бобышка, с мягкими очертаниями и ровной площадкой. Еще чуть-чуть наждачной бумагой, проверка по копиру – готово. Осталось еще две бобышки – и все.
Сложная работа, как всегда, увлекает, с каждым движением стамески из головы уходит все ненужное, лишнее, мешающее работе, точно он не дерево режет, а свои безрадостные мысли. И не только безрадостные, но и всякие другие. Может, это и хорошо, что никаких мыслей. Знай работай себе и работай. А думать… И все-таки: девять классов, плюс то да се – уже приучили Василия думать, и страшно ему, что привычка эта может исчезнуть как бы за ненадобностью…
Вчера предложил Марии почитать книгу, а она так на него глянула, такими удивленными глазами, точно он предложил ей выйти на улицу голой. Пытался убедить ее, как это интересно и полезно, а в ответ слезы. Кончилось тем, что сам не сдержался, наговорил ей всякого, даже выругался, а если разобраться, то в чем ее вина? Нет за ней никакой вины, потому что не испытывает она ни малейшей потребности в книгах, как ты сам не испытываешь потребности ходить на руках. А ведь иные ходят… Да и пример двоюродного брата у нее перед глазами. Попробуй-ка переубеди ее, что не из-за книг он пытался наложить на себя руки, а от неправильного их понимания. Может, к тому же не те книги читал. И не о том. Но даже если и так, то не книги виноваты, а он сам. Тут и думать нечего.
Сзади хлопнула дверь, взвыла вентиляция – и Василий догадался, что пришел мастер, Евгений Семенович, пришел пораньше, зная, что рано придет и Василий, а одному – по технике безопасности – работать не положено. Сейчас подойдет, встанет сзади и будет турурукать мелодию из оперы «Кармен», которую недавно передавали по радио. Эту мелодию Евгений Семенович будет турурукать дней десять, пока не увлечется какой-нибудь другой. Небось, как и прежде, то есть два года назад, еще когда Василий, ожидая места в общежитии, жил у Ивана Кондорова, стена в стену с Евгением Семеновичем, там все так же вечерами напролет и по выходным с утра до вечера играет патефон, звучат всякие арии и романсы, а по ночам скрипит и стучит в стенку железная кровать, на которой Евгений Семенович пытается заставить понести свою мослаковатую и худющую жену. Василия иногда подмывает спросить у мастера, не забеременела ли его жена, но спрашивать неудобно, а с Кондоровым отношения у Василия разладились, и все лишь потому, что тот когда-то ухлестывал за Марией, а ее влекло к Василию…
– Здорово! – произнес Евгений Семенович и слегка коснулся Васильевой руки.
Василий отложил наждачную бумагу, вытер руки тряпицей, повернулся, протянул руку мастеру.
– Здравствуйте.
– Ну, как?
– Осталось две бобышки.
– Ну-ну. – Потурурукал что-то карменовское, затем сказал, будто между делом: – Слыхал, теперь в высшие учебные заведения будут принимать всех, независимо от социального происхождения?
Василий не сразу понял, о чем речь. А когда до него дошло, рука дрогнула – и лезвие стамески ушло вбок.
– То есть как? – спросил вдруг осипшим голосом и посмотрел Евгению Семеновичу в глаза: не шутит ли?
– А вот так, – равнодушно передернул плечами Евгений Семенович. – Постановление Цэка и Верховного Совета: независимо от социального происхождения. Неважно, кто твои родители – из дворян, буржуев или, скажем, из кулаков. Дети за отцов не ответчики. Хочешь учиться – учись. И должность можешь потом занимать любую. Так сказать, по способностям. В СССР теперь социализм, полное отсутствие классов и антагонизмов, все равны, у всех одинаковые права и обязанности…
Затурурукал и пошел по своим делам.
А Василий еще долго не мог унять дрожь в руках и, чтобы не напортачить, отложил стамеску, взял из пачки папиросу, пошел в курилку, в маленький скверик из полудюжины лип и кустов сирени, затерявшийся меж прокопченными корпусами.
Над головой, хрипло и надсадно, проревел первый гудок. Ему откликнулись заводы «Красный выборжец», «Арсенал», имени Свердлова, какие-то еще: будили рабочие окраины, звали к станкам, печам, верстакам, конвейерам…
Где-то за Ладогой-Онегой встало солнце и теперь медленно карабкалось вверх, иногда выглядывая, играючи золотистыми лучами, в прорехи между облаками. На Неве хрипло, почти по-собачьи, рявкнул буксир. В церквушке, точно при старом режиме, зазвонили к заутрине. Еще совсем недавно колокола там молчали, говорят, веревки с них были срезаны, а двери в звонницы опечатаны ГБ. Теперь, значит, разрешили…
Давно ли и сам Василий ходил под медь оркестров и шелест красных флагов скидывать с церквей кресты и колокола, рушить церковные маковки. И как поменялось все за последнее время, о чем и помыслить недавно не смели: и карточки отменили, и крестьянам дали всякие льготы и послабления, и много чего еще произошло удивительного, что казалось невозможным несколько лет назад. Однако у Василия эти изменения не вызывают ни печали, ни уныния, ни возмущения, ни ропота, какие они вызывают у иных партийных товарищей. Василий считает, что коли вернули старое, значит, так надо. Да и что плохого в церквах и колокольном звоне? Они революции не помеха. К тому же в голове Василия еще удерживаются воспоминания о прошлом, он иногда будто въяви слышит, как в звонкой тишине осенней поры плывет над землей дальний колокольный звон, плывет в серебре паутинок, плывет вместе с журавлиными и гусиными косяками, и печальный звон этот так же неотделим от уставших за лето полей и лесов, как неотделим от них прощальный клекот пролетающих птиц.
«Независимо от социального происхождения…»
Неужели это возможно?
Полузабытое лихорадочное нетерпение охватило Василия, он оглянулся по сторонам, бросил недокуренную папиросу в чугунную урну и поспешил к своему верстаку: ему казалось, что чем скорее он закончит модель корпуса гидронасоса, тем быстрее же решится и его судьба. Не обязательно даже идти на рабфак. К тому же, на весь Питер их всего два, поступить туда не так-то просто, а образование у него и так среднее, можно за лето пройти ускоренную подготовку и сдавать экзамены прямо в Технологический институт. Только надо самому посмотреть это постановление Цэка: вдруг Евгений Семенович что-то напутал. Или бывает по пословице: слышал звон, да не знает, где он. Вполне возможно. Однако внутри Василия уже крепла уверенность, что ничего мастер не напутал, что так оно все и есть на самом деле, как он сказал, и можно будет снова попытаться…
Только бы имелось это постановление и только бы его не отменили.