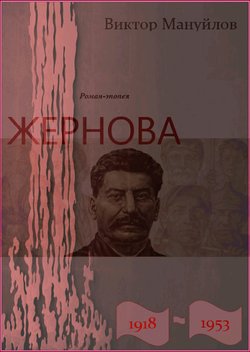Читать книгу Жернова. 1918–1953. Книга шестая. Большая чистка - Виктор Мануйлов - Страница 16
Часть 20
Глава 16
ОглавлениеМиновало два дня. После обеда Алексей Петрович прилег на диван в своем кабинете, раскрыл книгу Гната Запорожца. С фронтисписа на него глянуло круглое лицо с глубоко упрятанными под надбровные дуги глазами. Ничем не примечательное, типично малороссийское лицо, если бы не пышные шевченковские усы, прикрывающие даже нижнюю губу. Глядя на портрет, Алексей Петрович попытался представить себе, как ест и пьет этот Гнат Запорожец и как лезут ему в рот его непомерной толщины усы. Наверное, после еды он долго обсасывает их и выбирает крошки. Вот уж, действительно, желание казаться у иных сильнее, чем они есть на самом деле.
Книга Запорожца представляла собой сборник, состоящий из двух повестей и десятка небольших рассказов из жизни украинской деревни. Не сразу Алексей Петрович догадался, о каком времени идет речь в этих повестях и рассказах, лишь по каким-то косвенным признакам уяснил, что это двадцатые годы, предшествующие коллективизации. Умышленно или так вышло само собой, но Гнат Запорожец описал украинское село как бы вне времени и обстоятельств. Со страниц книги пахнуло чем-то гоголевским из «Вечеров на хуторе близ Диканьки», разве что язык был другим да юмора поменьше.
И все-таки книга Алексею Петровичу понравилась. В ней подкупала свежесть и незамутненность народного быта, автор как бы давал понять читателю, что время не властно над народными традициями и обычаями, что только они и вечны, а все остальное временно и преходяще. Но в этом-то и была ахиллесова пята его повестей и рассказов: как это так – Революция, а в украинском селе никаких перемен? Зачем тогда Революция? И в чем смысл этой книги? Действительно ли в ней присутствует национализм или же нечто похуже – неприятие советской власти и коллективизации?
Что тайный смысл существует, в этом не было ни малейших сомнений. Алексей Петрович видел, как автор спотыкается на ровном месте и старательно обходит острые углы, как рвется тонкая пряжа повествования, когда дело доходит до земли и всего, что с нею связано. Это не скроешь ни за цветистыми описаниями рассветов и закатов, лунных ночей и солнечных дней, шумных свадеб, таинств рождения и смерти.
Алексей Петрович ставил себя на место Гната Запорожца, проникаясь его заботами и болями. Он вспоминал то время, когда став разъездным корреспондентом «Гудка», очеркистом и репортером, ломал себе голову почти над теми же проблемами, пытаясь не замечать одного, переиначивать другое, а живые человеческие судьбы подменять красивыми картинками из будущего. Если бы он писал в своих репортажах и очерках все, что он видел и думал об увиденном, то графически получалась бы кривая, но непрерывная линия. А если выбросить все то, что выбросил бы потом редактор и цензор, то линия бы разорвалась во многих местах: одни пики и впадины кривой исчезли бы, другие заняли бы их место и приняли бы их форму, но стыки все равно были бы видны, как видны они были в повестях и рассказах Гната Запорожца.
Алексея Петровича так захватил азарт расшифровки действительного смысла недомолвок и разрывов в живой ткани языка автора, его невольного любования обычаями и традициями бесхитростной жизни своего народа, его упорного нежелания принимать происходящие на селе перемены, что не заметил, как подошло время ужина.
Звать его на ужин пришла Ляля.
– Папа, мама велела передать, что через десять минут ужинать.
– А-а, ну да, хорошо, я понял. Скажи маме, что сейчас приду, – пробормотал Алексей Петрович, записывая в блокнот обрывки мыслей, возникающих по ходу повторного чтения рассказов.
– А можно, я пока побуду с тобой?
– Разумеется, можно, – разрешил Алексей Петрович, мельком глянул на дочь, встретился с ее внимательно-любопытными светло-карими – своими! – глазами, но тут же, почему-то смутившись, снова уткнулся в книгу.
Через минуту что-то заставило его вновь поднять голову.
Ляля сидела на краешке дивана, прямая спина, руки на коленях теребят складку ситцевого домашнего платьица, толстая темно-русая коса перекинута через плечо, острые ключицы и едва пробивающиеся груди, но в детском лице так много взрослой серьезности… нет, не столько серьезности, сколько, пожалуй, монашеской отрешенности или чего-то в этом роде… Вот такие же выражения лиц он видел у детей старообрядцев: страх и недоверие, затаенное страдание и, в то же время, что-то жесткое, непреклонное, почти фанатичное…
Алексею Петровичу стало не по себе, он отложил книгу, неуверенно взял в свою руку тонкую руку дочери, спросил:
– Что-нибудь случилось, малыш?
– Н-нет, ничего, папа, – встряхнула головой Ляля, и в это мгновение стала похожа на него самого, каким он, Алешка, был в далеком детстве: смесь упрямства и желания кому-то излить свою душу.
– Но я же вижу, – тихо произнес Алексей Петрович, и голос его дрогнул от жалости и сострадания. – Расскажи мне, может быть, я смогу тебе помочь.
Ляля закусила нижнюю губу, тихо спросила:
– А ты не будешь смеяться?
– Ну что ты, малыш! Как можно!
– Я… Ну, в общем… – никак не могла начать Ляля трудный для нее разговор. – Короче говоря, у нас есть в классе мальчик… Он… он почти отличник: у него только две четверки за первое полугодие… И комсомолец он очень сознательный. Вот… А у него папа… его арестовали. А мальчик… У нас было комсомольское собрание по осуждению врагов народа, так вот он… он отказался осуждать своего папу. Он сказал, что папа его настоящий коммунист, что арестовали его по ошибке…
Ляля замолчала, закусила губу и требовательно взглянула на отца.
Алексей Петрович подумал с тревогой, что она хочет, чтобы он, ее отец, заступился за папу или за мальчика, в которого его дочь наверняка влюблена.
– Такое вполне возможно, – произнес он, желая опередить просьбу дочери.
Глаза Ляли широко распахнулись, в них вспыхнуло неподдельное изумление.
– Ты считаешь, что НКВД может ошибиться? – спросила она, покачивая недоверчиво головой из стороны в сторону.
– В НКВД, малыш, работают люди. Людям свойственно ошибаться. Я не хочу сказать, что такие ошибки – типичное явление. Но иногда они, к великому сожалению, имеют место. Конечно, справедливость рано или поздно восторжествует, но для этого понадобится какое-то время, – говорил Алексей Петрович, тщательно подбирая слова и внимательно следя за выражением лица дочери, которое, похоже, начало оттаивать и смягчаться. – Подобные ошибки известны, – продолжал он настойчиво бить в одну точку. – О них даже писали в газетах. Случается, что враги специально клевещут на честных и преданных партии людей, тем самым отводя удар от самих себя. Случаются роковые совпадения, когда следователю НКВД кажется вина подследственного очевидной и доказанной. Бывает, что безвинный человек как бы попадает в орбиту подрывной деятельности хорошо замаскированных преступников, не успевает разобраться в обстоятельствах, а это подчас очень непросто, и попадает на скамью подсудимых вместе с ними. Все бывает, малыш. Плохо, когда честному человеку перестают верить люди, знающие его много лет по совместной работе. Особенно – близкие люди… Впрочем, и близким людям иногда трудно разобраться, где правда, а где ложь. Ведь не станет преступник посвящать в свои тайны своих же детей! Даже если он мерзавец из мерзавцев.
– Папа, а что же мне делать? На завтра у нас назначено комсомольское собрание по персональному делу этого мальчика. Он верит, что папа его честный коммунист… А я? Кому я должна верить? – воскликнула Ляля, прижимая тонкие руки к своей груди. В глазах ее стояли слезы, которые вот-вот должны пролиться.
Алексей Петрович растерялся. Посоветовать дочери голосовать против исключения – не обернется ли этот шаг против нее самой? Воздержаться – то же самое. Голосовать за? Но именно этого-то она больше всего боится и не хочет.
Он взял ее за руку, потянул к себе – и Ляля, будто ждала от него этого движения, упала ему на грудь и захлебнулась горькими рыданиями. Алексей Петрович гладил ее плечи и голову, отирал мокрое лицо своим платком, но это, похоже, лишь подхлестывало рыдания дочери, усиливая ее отчаяние и растерянность перед неразрешимым выбором.
В кабинет заглянул Иван и, не разглядев в полумраке, что здесь происходит, сердито произнес:
– Мама уже ругается, а вас все нет и нет. Уснули вы, что ли?
– Иди и скажи маме, что мы сейчас придем, – строго приказал Алексей Петрович.
Иван, недоверчиво передернув плечами, тихо закрыл за собою дверь.
Когда Ляля немного успокоилась, они вместе покинули кабинет и прошли в туалетную комнату. Там она долго плескалась под краном, потом тщательно вытиралась вафельным полотенцем. Когда вышли в коридор, спросила:
– Папа, а если тебя арестуют, что тогда?
– Меня не за что арестовывать, малыш, – бодро уверил ее Алексей Петрович. Он хотел сказать дочери что-то еще, но вдруг сам усомнился в своей защищенности от такого исхода, представил на мгновение, как все это произойдет и что станет с его семьей, – и ему стало так страшно, что он не смог к сказанному добавить ни единого слова, лишь жалко покривился.
Слава богу, Ляля этой его мучительной гримасы видеть не могла: в коридоре было слишком темно.
Ужинали, как всегда, двумя семьями. Дети Льва Петровича и Катерины, двадцатидвухлетний студент Энергетического института Андрей, весь вылитая мать, такой же цыгановатый красавец, и девятнадцатилетняя студентка медицинского Марина, русоволосая и кареглазая, похожая на бабку Клавдию Сергеевну, а более всего – на Алексея Петровича, были сегодня дома.
По заведенному обычаю во главе стола сидела Клавдия Сергеевна, по правую руку от нее семья старшего сына, по левую – младшего. Однако Клавдия Сергеевна не командовала столом, как в былые годы, не разливала и не раскладывала пищу по тарелкам – это теперь делали снохи. Единственное, что было ей под силу и что оставалось в ее заведывании – это самовар и банки с вареньем, над которыми она священнодействовала с такой самозабвенно-молитвенной сосредоточенностью, что все разговоры за столом умолкали, когда она разливала по чашкам чай и раскладывала по розеткам варенье: кому клубничное, кому смородиновое, кому клюквенное или брусничное. Она знала и помнила вкусы всех своих детей и внуков, знала, когда и у кого эти вкусы менялись и появлялись другие, следила за этими изменениями иногда со стариковской радостью, но чаще с огорчением и печалью.
Молодежь росла, вытягивалась и отрывалась от родной пуповины семьи. Дети ее, Лев и Алексей, мало чем напоминали Клавдии Сергеевне ее молодость, но она их все-таки понимала: они росли из недр ее представлений о жизни и семье, а внуки ушли так далеко от ее прошлого, что в ее сознании не существовало даже узенького мосточка, соединяющего это прошлое с настоящим. И она старалась этого настоящего не замечать и не пускать его в свое усталое и больное сердце.
Чай был разлит по чашкам, перед каждым стояла розетка с его любимым вареньем. Все были сыты и могли целиком предаться неспешному наслаждению чаепитием. Столь же неспешными были и разговоры, которые с некоторых пор возобновились за столом, как будто все изменения в самой жизни за пределами дома стали настолько обыденными и понятными, что уже не вызывали былого страха и недоверия как к окружающим людям, так и к самим себе.
Алексей Петрович незаметно направлял разговоры в нужную ему сторону – к теме, которая волновала Лялю, он исподволь следил за дочерью, пытаясь проникнуть в работу ее сознания и совершить в нем какие-то изменения, в которых он и сам не отдавал себе полного отчета, но которые непременно должны были спасти его дочь от опрометчивого шага.
Маша, всегда чутко отмечавшая любые изменения в настроении ее близких, с деланным равнодушием наблюдала за мужем и дочерью, между которыми что-то произошло, но что именно, она не знала, и теперь терялась в догадках, хотя и была уверена, что ночью Алексей непременно посвятит ее в эти их с дочерью тайны. Она боялась лишь одного: Ляля в таком возрасте, когда особенно обострено любопытство к противоположному полу, а совсем недавно пропагандировалась мода на всякие вольности в отношениях между полами, детей будто специально натаскивали на раннее любопытство к половой жизни, среди родителей ходили всяческие ужасные слухи о связях молодых мужчин-учителей со своими ученицами, о беременностях в четырнадцать и даже в тринадцать лет, о половых извращениях и прочих мерзостях. Правда, в последние год-два в этом смысле многое поменялось и в отношении власти к подобным явлениям, и в отношении самой школы: всякие заскоки и распущенность порицаются, семейные узы рассматриваются как основа прочности государства и общественных институтов. Это радовало. Но ничто не проходит бесследно, и Маша боялась, что веяния недавних вольностей каким-то образом коснулись и ее дочери. Ведь нашла же она у нее прошлой осенью порнографическую открытку – и сколько же они вместе пролили слез, прежде чем пришли к согласию и решительному осуждению столь раннего и столь нездорового любопытства.
Эта их маленькая тайна прошла мимо Алексея Петровича, он и вообще-то мало вникал в семейные дела, предоставив все Маше, но она знала точно: после случившегося Ляля стала отдаляться от нее, прежней откровенности между ними уже нет. Не исключено, что она качнулась к отцу, ища у него разрешения своих непониманий и недоумений. Да и к кому же ей еще обращаться? Алексей с некоторых пор стал в семье – в их большой семье – чем-то вроде священника, к которому шли на исповедание все: и брат Лев, и Катерина, и даже их дети.
За столом засмеялись. Маша встрепенулась, губы ее дрогнули виноватой улыбкой, она близоруко оглядела стол.
Все смотрели на Андрея. Играя своими цыганскими глазами, чувствуя себя в центре внимания, он рассказывал что-то из своей студенческой жизни уже вполне сформировавшимся приятным баритоном:
– И вот, представьте себе, стоит этот Лямкин перед нами и заливается соловьем: я, мол, и раньше замечал за своим дядей что-то нездоровое, что-то попахивающее антисоветчиной и троцкизмом, но никак не мог сформулировать свои подозрения. И вот теперь, когда дядю арестовали, у него, мол, открылись глаза, и то, что раньше казалось ему просто подозрительным, теперь выглядит как вполне доказанное преступление. Представляете? Ну, я, разумеется, слушаю всю эту белиберду, но никак не могу понять, почему Лямкин со своими подозрениями не пришел в комитет комсомола? Ведь дядю его могли разоблачить еще два года назад…
Андрей оглядел сидящих за столом взором победителя. Но больше всего его интересовало впечатление, которое он произвел на своего дядю-писателя: для Андрея Алексей Петрович был эталоном коммуниста и просто мужчины. Вырезки из газет и журналов с очерками и рассказами дяди Леши он начал собирать еще в третьем классе, гордился этим, а две книги с дарственными надписями держал на специальной полке отдельно от других с уверенностью, что и вся полка будет со временем заполнена книгами Алексея Задонова с такими же дарственными надписями Задонову Андрею.
– И что же? – спросил Алексей Петрович. – Этот Лямкин разрешил твое непонимание?
– Что ты, дядь Леш! Когда он стал отвечать на мой вопрос, то окончательно запутался, и всем стало ясно, что он либо сочувствовал своему дяде, либо, в лучшем случае, проявил элементарно преступную беспечность по отношению к замаскировавшемуся врагу советской власти. Ведь, согласись, как человек ни маскируется, а в домашней обстановке он обязательно чем-нибудь да себя раскроет: какими-нибудь замечаниями, репликами, даже анекдотами. А Борька Лямкин, между прочим, слывет у нас на факультете за первейшего анекдотчика и всегда бравировал, что анекдоты слыхал от своего дяди. Тут разве что окончательный дурак не заметит троцкистской направленности мышления своего дяди.
– А у вас на факультете много умных?
– В каком смысле? – насторожился Андрей, преданно заглядывая Алексею Петровичу в глаза.
– В прямом. Вот ты – умный?
– Ну-у, – замялся Андрей. – Самому о себе говорить как-то не по-комсомольски. Пусть другие судят обо мне, умный я или дурак.
– Ну, вот ты – тот самый другой. Что ты можешь сказать о своих товарищах в этом смысле? Есть среди них умные?
– Конечно, дядь Леш! Да почти все! А Сережка Воронов – он вообще гений! Лучший математик в институте!
– Гении – не в счет, – добивался своего Алексей Петрович под одобрительные взгляды Катерины и своего брата.
– Я имею в виду элементарно умных студентов. Или, по-другому, не окончательных дураков.
– Я и говорю: все! – выпалил Андрей, уже догадываясь, что дядя строит ему какую-то логическую ловушку, в которые он ни раз завлекал своего самоуверенного племянника.
– Так что же вы, такие умные, не разглядели в анекдотчике Лямкине антисоветчика, а в его дяде – троцкиста? Ведь ты же сам утверждаешь, что он вам рассказывал анекдоты от своего дяди и что эти анекдоты всегда были с душком.
– Про душок я ничего не говорил, – тихо произнес Андрей, и уши его стали такими красными, что Катерине показалось, будто из них вот-вот брызнет кровь.
– Так тебе и надо, хвастунишка, – сказала она и взъерошила цыганскую шевелюру сына.
– Так что мне теперь делать? – тихо спросил Андрей, виновато оглядываясь на отца. – Получается, что мы все виноваты…
Лев Петрович сочувственно качнул тяжелой головой, но сына оправдывать не стал:
– Получается, что так.
– Ни в чем вы не виноваты, – заговорил Алексей Петрович, твердо разделяя слова. – Вы виноваты лишь в том, что молоды, самонадеянны, и вам кажется, что все просто и ясно. На самом деле все далеко не так просто и не настолько ясно, чтобы судить лишь по впечатлениям и понаслышке. Слишком большая ответственность – брать на себя решение судьбы своего товарища. Можно и ошибиться. Болтун, разумеется, находка для шпиона, но еще не шпион. И если осуждать его, то исключительно за болтливость.
– Но ведь не ждать же, когда болтливость закономерно перерастет в шпионаж.
– А вы и не ждите. В этом и проявится как ваша бдительность, так и ваша комсомольская принципиальность.
Ляля, сидевшая справа от отца, благодарно прижалась к его боку своим тоненьким телом и положила свою руку на его.
Губы Маши дрогнули тихой улыбкой, и еще полчаса назад мучившие ее тревоги отступили в темный угол за буфет с резными дверцами.