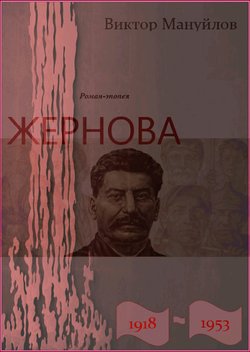Читать книгу Жернова. 1918–1953. Книга шестая. Большая чистка - Виктор Мануйлов - Страница 18
Часть 20
Глава 18
ОглавлениеВесна чувствовалась буквально во всем: и в первой траве, робко пробивающейся сквозь прошлогоднюю листву, и в криках ворон, и в синем высоком небе, и в теплом асфальте на мостовых, и в лужах, которые морщил веселый ветер.
Школа была обычной, построенной три года назад по единому проекту, хотя учились в ней дети многих партийных и государственных деятелей. Кирпичная, четырехэтажная, она выглядела весьма нарядно в окружении высоких берез, тополей и лип, в кронах которых галдели вороны вокруг старых гнезд.
Алексей Петрович уверенно прошагал через двор и вошел в большие двустворчатые двери, мысленно похохатывая над своими вчерашними приготовлениями. Особенно над приснившейся ему ерундой: ночь – вместилище нечистой силы.
Ляля подробно объяснила ему, как найти учительскую и как выглядит сама Татьяна Валентиновна, так что Алексей Петрович, едва отворив дверь учительской, сразу же в поднявшейся ему навстречу молодой сероглазой женщине узнал Татьяну Валентиновну и подивился точной портретной характеристике, которую на словах создала Ляля. Одно лишь не сходилось с описанием дочери: Татьяна Валентиновна представлялась ей пожилой, строгой и педантичной, на самом же деле она оказалась весьма милой и даже застенчивой женщиной лет тридцати. Более того, она встретила Алексея Петровича так, словно он был инспектором наробраза, явившимся разобраться в педагогических способностях учительницы по чьей-то жалобе, и теперь лишь от него одного зависит, что с этой учительницей станет.
«Конечно, она предпочла бы иметь дело с Машей, – подумал Алексей Петрович. – Надо будет спросить у Ляли, почему в дневнике появилось столь странное обращение именно к нему. Что за этим стоит: желание Ляли избавить мать от непривычной для нее роли, или она рассчитывала на авторитет своего отца? Все-таки, скорее первое, чем второе. К тому же Ляля ведь выступила на собрании с твоих слов, тебе и разбираться. Ну-у и… тут мог сработать нормальный инстинкт самосохранения».
– Очень рад с вами познакомиться, уважаемая Татьяна Валентиновна, – первым заговорил Алексей Петрович, улыбаясь своей слегка снисходительной улыбкой, которая – он это знал наверняка – так нравится женщинам. Остановившись перед ней в двух шагах, снял шляпу, склонил голову. – Здравствуйте. Задонов. Весь к вашим услугам.
Татьяна Валентиновна улыбнулась ему беспомощной улыбкой, несмело протянула руку. Алексей Петрович принял в свою ладонь ее узкую, да к тому же еще, и сложенную лодочкой ладошку, слегка пожал и удержал чуть дольше положенного, чем окончательно смутил классную даму.
– Итак, я вас слушаю.
– Вы извините, Алексей Петрович… Понимаете… У меня свободный час, а тут всегда народ…
– Да-да, разумеется! – подхватил Алексей Петрович. – Тем более что погода на дворе такая, что в дом заходить не хочется.
– Я сейчас… Я только оденусь…
– Позвольте за вами поухаживать.
– Да нет-нет, ничего, спасибо, я сама… я привыкла…
Но Алексей Петрович решительно отобрал у Татьяны Валентиновны ее пальто и помог ей одеться, отметив, что пальтишко – так себе, не первой свежести, явно перелицованное, а норковый воротничок – так и вообще почти без меха. Впрочем, сейчас все так ходят, разве что те, которые… Но ему не хотелось ни о чем таком думать, ему представилось на миг: а вдруг вот эта Татьяна Валентиновна и есть та самая женщина, о которой он… которая грезится ему по ночам… грезится рядом с потускневшей и располневшей Машей? Впрочем, нет, Маша и не такая уж полная, и не настолько потускнела, и другой жены ему, пожалуй, не надо, но… но что же делать, если все идет так, как оно идет? Разве он виноват в этом? К тому же он не распутник какой-нибудь, не знающий удержу и готовый кидаться на всякую бабу, лишь бы она не была противна. Просто он живой, нормальный мужик.
Однако нормальный мужик, похоже, перестарался, перешел некую грань, самую малость, даже и не перешел, а как бы наступил на нее – и вот: Татьяна Валентиновна вдруг стала той, какой ее описала Ляля – строгой и педантичной.
Они вышли из школы и некоторое время шли молча. Алексею Петровичу вдруг стало скучно, он даже на миг забыл, зачем пришел в школу, зачем идет рядом с этой женщиной. Говорить ни о чем не хотелось. В конце концов, эта учителка могла и сама разрешить возникший в ее классе конфликт. Что, собственно, он скажет ей о своей дочери такого, что она сразу же изменит к ней отношение? А главное, что после этого изменится в отношении к Ляле ее одноклассников? Ничего такого он ей сказать не может. Следовательно, она самая настоящая дура, но не без хитрости: решила подстраховаться именем известного писателя. Возможно, у нее уже был подобный случай…
– Вы извините, Алексей Петрович, что я оторвала вас от дел, – заговорила Татьяна Валентиновна, комкая в руках платочек, когда они остановились возле скамейки. – Поверьте, инициатива пригласить вас в школу принадлежит исключительно мне. Ваша дочь настаивала, чтобы пришла ваша жена, Мария Александровна. Теперь я думаю, что вообще не нужно было втягивать вас в это дело. – Строго глянула на Алексея Петровича, спросила: – Галя рассказала вам, какой конфликт возник у нее с комсомольской ячейкой класса?
– Да, рассказывала.
– И что вы по этому поводу думаете?
– Я думаю, что она поступила правильно.
– Вот как? А она рассказывала вам, что влюблена в этого Володю Сотникова?
– Нет, но я догадался. Хотя это, как мне кажется, не имеет принципиального значения.
– Я думаю – имеет. Ведь Галя голосовала за исключение Миры Фридман, которая отказалась от своего отца, признанного врагом народа.
– Разница все-таки имеется, уважаемая Татьяна Валентиновна: Фридман признан врагом народа и осужден, он осужден своею дочерью, а Сотников-старший всего лишь обвинен и арестован. Суда над ним не было. Откуда вы знаете, признает суд Сотникова виновным или не признает? Знать этого ни вы, ни я, ни сами судьи не могут до тех пор, пока следствие не предоставит им веские доказательства. И Володя Сотников тоже ничего пока не знает, даже если отец его в чем-то и виноват. Не думаете же вы, что старший Сотников посвящал в свои дела своего сына? Такое вряд ли возможно.
– Все это так, но существует практика…
– Я знаю, что существует практика, но дети всего лишь дети, у них никакого жизненного опыта. Даже мы с вами, взрослые люди, можем лишь рассуждать вообще, в принципе, что врагов народа надо карать, но в каждом частном случае необходимо разбираться. Товарищ Сталин, если вы читали его выступление на Пленуме ЦК, говорил, что в подобных вопросах огульный подход должен быть исключен безусловно.
– Да, разумеется, я с вами согласна, – уже лепетала Татьяна Валентиновна, растеряв после такого решительного наскока весь свой обвинительский пыл. – Я все понимаю, но дети… И потом, эта дружба Гали с Володей Сотниковым… Они ведь и не скрывают ее ни от кого – вот в чем дело.
– Дружба… А что здесь дурного? – спросил Алексей Петрович, пристально поглядев на Татьяну Валентиновну. Затем взял ее под локоток и повел по дорожке: садиться на сырую скамейку было совершенно немыслимо. Да и разговаривать сидя тоже не слишком удобно. Пройдя несколько шагов, Алексей Петрович отпустил локоть Татьяны Валентиновны и продолжил в том же нравоучительном тоне: – Разве вы в эту пору не влюблялись? И что мы можем сказать Гале? Нельзя? Так ведь это не от нее зависит, дорогая Татьяна Валентиновна. Сколько я помню себя в ее возрасте и других, все всегда в кого-нибудь были влюблены: мальчики в своих сверстниц или в учительниц, девочки – в мальчиков и учителей. Это закон природы. Становление личности, формирование пола. Другое дело, когда увлечение переходит в распущенность. Вспомните двадцатые годы и начало тридцатых… Но нельзя же теперь кидаться в другую крайность.
– Да, разумеется… Но что я скажу завтра детям?
– А то и скажите… Впрочем… – Алексей Петрович задумался, поддел концом башмака веточку, отбросил ее в сторону. – Ну, скажите, что надо подождать суда… Чтобы было, как у Фридман. Ведь, в конце-то концов, никакого преступления Володя не совершал, чтобы его выгонять из комсомола… А их дружба с Галей… Ну, голубушка, ведь вы – женщина, причем, как я понял, умная женщина, вы безусловно найдете нужные для такого случая слова. А с Галей я поговорю. Хотя… Вот вы сами мне посоветуйте, что я должен сказать своей дочери?
– Н-не знаю.
– У вас есть дети?
– Какое это имеет значение?
– Извините, действительно, не имеет.
– И все-таки мне кажется, что мы совершаем ошибку. Политическую ошибку, – уточнила Татьяна Валентиновна и с какой-то отчаянной смелостью вскинула свои глаза на Алексея Петровича. – Дело, как мне представляется, не в Володином папе, и не в том, виноват его папа или нет, а в том политическом настрое каждого сознательного советского человека, независимо от возраста и пола, в его принципиальной классовой позиции, которую он занимает в той борьбе с врагами народа, которая развернулась в стране… – Она опустила голову, произнесла тихо: – Вы извините меня, Алексей Петрович, что я читаю вам нравоучения, но, честно говоря, я в полной растерянности. А когда я читала ваши книги, то мне показалось, что вы все вопросы… все трудные вопросы решаете так мудро и… и… Извините, я зря оторвала вас от дел.
Что-то дрогнуло у Алексея Петровича в груди, горячая волна поднялась снизу и остановилась в горле. Он дотронулся до руки Татьяны Валентиновны, заговорил взволнованно и неожиданно для себя откровенно:
– А вы думаете, я все знаю? Вы думаете, я могу ответить на все вопросы? Мы, писатели, только делаем вид, что все знаем и понимаем, на самом же деле мы знаем и понимаем не больше других. Может быть, моя дочь и этот Володя Сотников знают нечто такое, о чем мы даже не догадываемся. Просто они не могут свои знания внятно выразить словами. Разумеется, с точки зрения политики и идеологии должна быть твердость и бескомпромиссность. Но Ляля – моя дочь, они оба – ваши ученики, мы за них в ответе, их слабости – это прежде всего наши слабости. К сожалению, есть порода людей, очень многочисленная, не способная ни рассуждать, ни сопереживать. Я рад, – торопливо говорил Алексей Петрович, заглядывая с надеждой в глаза Татьяне Валентиновне, – что вы оказались человеком, наделенным прекрасными душевными качествами… Я думаю, вы найдете достойный выход из этого щекотливого положения и без моего вмешательства. И поверьте, не потому, что я хочу устраниться от этого дела, а потому что уверен: мое вмешательство лишь привлечет ненужное к нему внимание. Но, с другой стороны, если дело дойдет до крайностей, тогда я вынужден буду вмешаться…
– Да-да, Алексей Петрович, спасибо вам, я все понимаю… Я постараюсь сделать все от меня зависящее… Но вы все же поговорите с вашей дочерью… Мне кажется, она должна извиниться перед коллективом класса за свое вызывающее поведение… Я уж не говорю о себе…
– Она вас оскорбила? – изумился Алексей Петрович.
– Она назвала меня бесчувственным сухарем.
– В присутствии класса?
– Нет-нет! С глазу на глаз.
– А как это выразилось по отношению к коллективу?
– Она сказала, что считает ниже своего достоинства оправдываться в своих поступках.
«Ай, да Лялька! – изумился Алексей Петрович. – Ай, да молодец! – Но вспомнил разговор с дочерью, в котором не было этих весьма существенных подробностей, испугался и приуныл: – Как же так? Не доверяет? Ничего не понимаю…»
– Я непременно поговорю с ней, – пообещал Алексей Петрович. – Непременно. Беда лишь в том, что я не скоро узнаю результаты этого своего с нею разговора: сегодня вечером уезжаю в длительную командировку… А знаете что… дам-ка я вам адрес… Ах, где-то он у меня, – стал рыться он в карманах, нашел наконец бумажку, протянул Татьяне Валентиновне. – Не сочтите за труд чиркнуть мне пару слов о том, чем все это кончится. Или какое примет направление. Очень вас прошу. Буду весьма признателен, – торопился он, всовывая бумажку с адресом в руки Татьяны Валентиновны. – Быть может, если что, я смогу чем-то помочь оттуда, хотя вряд ли, но вдруг у вас не будет выхода…
Со стороны школы послышался звонок, и Татьяна Валентиновна заторопилась. Он видел, что она разочарована: ждала от него чего-то большего, а он… Думает, небось, что сматывается, чтобы не быть втянутым… Ну и пусть думает.
Простились сухо. Алексей Петрович еще некоторое время смотрел вслед тонкой фигуре женщины, становящейся все меньше и тоньше, пока фигура эта не скрылась за большой дубовой дверью. Дверь хлопнула, Алексей Петрович вздохнул, подумал разочарованно: «Даже не оглянулась». И пошагал домой.
Впервые Маша настояла на том, чтобы проводить его на поезд, и он впервые не стал особенно сопротивляться: почему-то не хотелось уезжать в одиночку, как в былые времена его журналистики.
На вокзале продавали мимозу. В такое-то время. То есть в том смысле, что сезон мимозы уже прошел, а тут вдруг… Алексей Петрович, посчитав это хорошим предзнаменованием, купил Маше букетик остро пахнущих югом цветов, и до самого последнего звонка не уходил в вагон, держа Машу за руку.
Маша крепилась, но видно было, что она боится за него, что его страхи каким-то образом передались и ей. Может быть, именно поэтому, что Маша так боялась и переживала, сам Алексей Петрович почувствовал уверенность в себе и успокоился. И Машу уверял, что все хорошо, что с ним ничего не случится, что он будет ей писать. Просил беречь детей, мать… – и много еще чего наговорил ей, с тоскою ожидая отправления поезда и зарекаясь больше никогда не разрешать Маше провожать его далее домашнего порога.
Он так ничего ей не сказал о конфликте, который возник у дочери в школе. Но с Лялей все-таки нашел время поговорить. Увы, разговор этот мало что прояснил. Разве лишь то, что никакого недоверия к нему со стороны Ляли не было и в помине, что подробности она не утаивала, а посчитала их несущественными. Он убедил Лялю извиниться перед классной руководительницей, уверив ее, что Татьяна Валентиновна вовсе не сухарь и не бесчувственная. Ляля обещала. Он и ей оставил адрес Ереванской гостиницы, попросил обязательно написать, а в случае непредвиденного развития событий обратиться за советом к дяде Леве.
Наконец прозвучал третий звонок, Алексей Петрович поцеловал Машу в губы, шагнул в тамбур вагона и оттуда, из-за плеча проводника, махал ей рукой, пока Маша не отстала от поезда и не пропала из глаз. После чего прошел в купе, которое оказалось совершенно пустым. Он переоделся и, облегченно вздохнув, уселся у окна и стал смотреть на проплывающую мимо старую деревянную Москву, всякий раз удивляясь тому, что когда-то кто-то разрешил кому-то построить единственную в России дорогу с левосторонним движением – Казанскую дорогу. А зачем, спрашивается? Так, прихоть, и ничего больше…