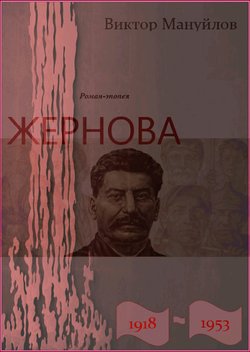Читать книгу Жернова. 1918–1953. Книга шестая. Большая чистка - Виктор Мануйлов - Страница 7
Часть 20
Глава 7
ОглавлениеПоследние два месяца Бухарин избегал своей кремлевской квартиры. Особенно после того, как к нему нагрянул комендант Кремля с постановлением о выселении. Николай Иванович, возмущенный наглой бесцеремонностью коменданта, позвонил Сталину, тот, хмыкнув в телефонную трубку, посоветовал послать коменданта к чертовой матери. Комендант убрался не солоно хлебавши, а в голову Николая Ивановича закралось подозрение, что в этом будто бы выселении замешан Сталин: кому не известно, что в Кремле гвоздь не забьют без его ведома. Но с тех пор Николай Иванович живет практически постоянно в квартире своей жены, а в кремлевской ночует лишь время от времени: еще раз стать объектом глупой и злой шутки Сталина – или чего-то похуже – нет уж, покорно благодарю.
Служебный автомобиль довез Николая Ивановича почти до дверей Большого Кремлевского дворца. Курсанты Кремлевского полка расчищали дорожки от выпавшего ночью снега, сгребали его к одной стороне, а уж оттуда бросали снег в открытый кузов грузовика. Молодые розовощекие лица, улыбки до ушей, беспечный смех, довольство жизнью и своим положением. И никакой мороз им не страшен, никакие мировые проблемы не забивают их легкомысленные головы. Небось верят, как истый христианин Евангелию, всему, что пишут газеты о врагах народа. Так же легко поверят, что и Бухарин тоже – каэр и вранар. С них станется. Нет, не им читать «Завещание» Бухарина, а их детям. Или даже внукам.
Как долго нынче длится зима… Всё снегопады, вьюги да метели, сменяемые трескучими морозами. Конца-краю не видно… Тоска-ска-ска-ска…
Николай Иванович поежился под толстым зимним пальто, утопил голову в барашковый воротник, торопливо пересек Дворцовую площадь.
Пленум заседал в бывшем Екатериненском зале Большого Кремлевского дворца восьмой день. Николай Иванович отметил повышенную нервозность одних, мрачную сосредоточенность других. Что-то похожее уже когда-то было. Скажем, по вопросу о Брестском мире с Германией – в восемнадцатом году. Потом по вопросу НЭПа – в двадцать первом, о «чрезвычайных законах против крестьянства» – в двадцать восьмом… Были другие сложные проблемы и решения, но никогда Николай Иванович не чувствовал себя таким потерянным и одиноким. Всякая логика и диалектика разбивались о нежелание большинства членов ЦК внимать здравому смыслу, фактам и доказательствам. Действовал какой-то массовый гипноз, заставлявший умных людей называть черное белым, а белое черным.
Несмотря на все свои мрачные мысли и предчувствия, Николай Иванович перед началом заседания с удовольствием побрился в кремлевской парикмахерской, с аппетитом позавтракал в кремлевском буфете. Проходя мимо огромного зеркала, критически оглядел себя с ног до головы: отражение в зеркале смотрело на него весьма уверенно и даже внушительно. Вот только глаза несколько поблекли да остались тени под ними после почти бессонной ночи. В общем и целом Николай Иванович себе понравился. Впрочем, он всегда нравился себе и даже любил смотреть на себя в зеркало. Не специально, нет, а исключительно по необходимости. Вот как сейчас. Это придает уверенности, усиливает чувство собственного достоинства. Пусть и они, глядя на Бухарина, думают, что он не спасовал. Пусть знают, что за себя Бухарин постоять сумеет. Потому что Они – рабы внешних обстоятельств. Потому что мишура власти затмевает им реальность бытия… Или нет: их бытие определяет их сознание. Вернее сказать: затмевает его.
Николай Иванович незаметно расправил плечи, выпятил грудь, вошел в зал. Походя пожал несколько рук. Перебросился кое с кем ничего не значащими фразами. Даже посмеялся чьей-то довольно плоской шутке. Пусть смотрят и видят… Прошел к своему месту.
Часы пробили десять раз. С каждым их ударом шум в зале затихал на какую-то малость. К десятому удару стих совершенно.
Сталин появился ровно с последним ударом отдельно от остальных членов Политбюро. Положил на стол президиума папку с бумагами. Оглядел зал.
Николай Иванович испытал нервозное желание заглянуть в сталинскую папку: тогда бы он точно знал, как себя вести дальше. Увы, не заглянешь. Как не заглянешь в голову Сталина. Или в душу. Но в любом случае он должен быть сегодня особенно осмотрительным, речи его должны быть взвешенными и предельно доказательными. Надо постараться побить Сталина его же оружием: внешним спокойствием, уверенностью, сарказмом.
Толпой ввалились в зал члены Политбюро, расселись по своим местам вокруг Сталина. С одной стороны Каганович – за председателя. С другой – Молотов. Далее Ворошилов, Калинин и прочие. Николай Иванович внимательно вглядывался со своего места в лица членов Политбюро и впервые чувствовал к ним брезгливую ненависть. Всё это были совсем не те люди, кого бы он хотел видеть на их месте. Впрочем, и раньше тоже были далеко не те. Но тех можно было терпеть, с ними можно было договариваться, они понимали значение Слова. А эти… Их послушать – уши вянут. Тупые, самодовольные рожи.
– Продолжим нашу работу, – буднично произнес Лазарь Каганович. – Слово для сообщения предоставляется товарищу Ежову.
«Опять Ежову, – с раздражением подумал Николай Иванович. – Что нового может сказать этот пигмей? И какое такое Слово? Его «слово» – набор мерзостей, призванных прикрыть собой действительную Правду».
Ежов встал, одернул гимнастерку, провел руками по широкому поясу, затем по волосам, обернулся назад, наклонился, взял с кресла папку, быстро пошел к трибуне.
Все это мелко, суетливо, на уровне приказчика заштатного магазина в ожидании первых покупателей.
Николай Иванович вспомнил слова Сталина, сказанные им после смерти Кирова в разговоре с глазу на глаз: «Мы, Бухарчик, с тобой, как две горные вершины. Все остальные – пигмеи: они там, далеко внизу. Нам, Бухарчик, с тобой друг за друга вот как держаться надо», – и стиснул одной ладонью другую.
Тогда Николай Иванович полагал, что эти слова были сказаны искренне. Он даже обрадовался этим словам, увидев в них обещание Великого Будущего. И все же не преминул пококетничать: «Ну что ты, Коба! Это ты – Эверест. А я – разве что Эльбрус». «Не прибедняйся, – слегка поморщился Сталин и поощрительно похлопал Николая Ивановича по плечу. – Дело не в том, как называется гора, а в том, каким светом она горит в лучах солнца. Если мы с тобой будем гореть одним светом, нас никто не сломит».
Теперь Николаю Ивановичу тот разговор казался верхом лицемерия со стороны Сталина. Впрочем, Сталин лицемерил всегда, и не вынужденно, а с расчетом. Это Бухарину приходилось частенько «наступать на горло своей песне», как говорил поэт. То ради единства партии, то ради святого партийного закона подчинения меньшинства большинству. И что же? Выходит, что они со Сталиным все это время «горели в лучах солнца» разным светом?
– Мы еще и еще раз проверили данные о контрреволюционной деятельности товарища Бухарина, и я во второй раз утверждаю, что товарищ Бухарин знал о контрреволюционной деятельности Рыкова, Раковского и Крестинского. Как и всех остальных обвиняемых по делу «антисоветского право-троцкистского блока», – произнес Ежов, и Николай Иванович вздрогнул и с изумлением уставился на своего тезку. Он так увлекся воспоминаниями, так был усыплен бессмысленной болтовней наркомвнудела, что пропустил мимо ушей большую часть его выступления. И лишь прозвучавшая с трибуны собственная фамилия вернула Николая Ивановича к реальности.
– Это наглая ложь! – выкрикнул он, вскакивая с места и сразу же позабыв все данные себе обещания быть выдержанным и прочая. – С таким же успехом я могу обвинить в том же самом и товарища Ежова: сидел на партконтроле и не мог оттуда разглядеть врагов народа! Уж не в сговоре ли с ними был товарищ Ежов?
– Товарищ Бухарин! Прошу тебя соблюдать партийную дисциплину! – постучал карандашом по графину Каганович. – Тут тебе не редакция «Известий», а пленум ЦК!
– Причем тут редакция «Известий», если я уже больше месяца не главный редактор?
– А для товарища Бухарина партийная дисциплина не обязательна, – негромко произнес Сталин, останавливаясь за спиной Ежова и ткнув погасшей трубкой в сторону Николая Ивановича. – Товарищ Бухарин у нас на особом положении… Продолжайте, товарищ Ежов. Товарища Бухарина мы еще успеем послушать.
– Да, я со всей ответственностью заявляю, что товарищ Бухарин не только знал, но и соучаствовал в антисоветском заговоре, – снова заговорил Ежов. – И чтобы подтвердить свои слова, я прошу ввести в зал обвиняемых Радека и Сокольникова. Пусть они подтвердят мои обвинения в адрес товарища Бухарина.
По залу прошел скрип кресел и шелест поворачивающихся к дверям тел. Двери отворились – вошли двое чекистов, за ними, с руками за спину, Радек и Сокольников. Затем еще двое чекистов. Все шестеро прошествовали к трибуне, остановились в трех шагах от нее и повернулись к залу лицом. Все это было проделано молча и весьма согласованно, как будто уже не раз репетировалось в этом же зале, и каждый знал, куда идти, где стоять и что говорить.
Николай Иванович вытянул шею, разглядывая вошедших. Он знал их слишком хорошо. Особенно Радека, которого в редакциях газет называли «Радеком Великолепным», «Красавчиком», и не только потому, что владел острым пером, но и весьма эффектной внешностью. Жизнелюб, сердцеед, сластолюбец, позер. И во что же превратился этот человек за несколько месяцев пребывания в тюрьме? В развалину. Да и Сокольников – тоже. Тени былого великолепия.
У Николая Ивановича защемило сердце. Ведь эдак и его могут… А он так боится боли. Даже укол – и тот для него почти средневековая пытка. Какой ужас!
– Да, я не раз говорил с Бухариным о необходимости свержения существующего строя, – выдавливал из себя Радек.
Ежов перегнулся через трибуну, пытаясь заглянуть сбоку в лицо Радека, спросил:
– Где вы говорили об этом с товарищем Бухариным, обвиняемый?
– В редакции «Известий».
– Это ложь! – вскрикнул Николай Иванович, вновь вскакивая на ноги и холодея от ужаса, потому что о чем-то в этом роде они с Радеком однажды все-таки говорили. Не то чтобы о свержении существующего строя, а… Нет, никак не вспомнить.
– Карл! Как ты можешь говорить такое? Как можешь ты так бессовестно врать перед лицом своих товарищей по партии? Тебе померещилось, приснилось! Одумайся, Карл! – призывал Николай Иванович, не замечая, что голос его, всегда уверенный, а сейчас пронизанный плаксивыми нотками, передает весь ужас его перед случившимся. Он не видел лиц сидящих в зале, не замечал их брезгливости и презрения. Он ничего не видел, сознавая лишь одно: его участь решена, и это участь Зиновьева и Каменева. Но главное, он не находил веских аргументов против обвинения. А они существуют, не могут не существовать. Но память подсовывала ему лишь что-то мелкое, пошлое, незначительное, которое – и это понимал Николай Иванович – лишь усугубит его положение.
Радек молчал, потупив голову.
– Вот видите, товарищи! – воскликнул Ежов. – Какие мерзкие типы эти правые! Даже когда их припрут к стенке, они выкручиваются и врут. А потом начинают признаваться и лебезить: мол, я не я и хата не моя.
В зале засмеялись.
Косиор, первый секретарь ЦК КП(б) Украины, подтвердил с ухмылкой на круглом лице:
– Совершенно отвратительные типы.
Николай Иванович в растерянности оглянулся на Косиора, встретился с его волчьим взглядом, открыл было рот, чтобы возразить, но тут сбоку прозвучал голос Постышева, секретаря Курского обкома:
– Сплошь отвратительные типы.
– Странно, что ты, товарищ Постышев, пять минут назад снизошел до пожимания руки сплошь отвратительного типа. Ты хоть бы платком вытер свою руку, что ли, – не удержался Николай Иванович. Но слова эти были произнесены как бы и не им самим, а той частицей его, частицей совершенно мизерной, которая еще цеплялась за прошлое и была способна говорить его языком. Сам же Николай Иванович точно перешагнул через роковой рубеж, за которым ничего не оставалось, кроме близкого мрака и потрескивающих под тяжестью земли досок соснового гроба.
– Товарищ Бухарин! – прозвучал гневно клекочущий голос Кагановича. – Я требую от вас прекратить безобразие и не мешать работе пленума Цэка!
Нет, крышку еще не закрыли, и гробовщик не взял в руки свой молоток.
– По-моему, работе пленума Цэка мешает товарищ Ежов своей беспардонной ложью и подтасовками, – отпарировала мизерная частица Николая Ивановича, изо всех сил цепляющаяся за красную обивку гроба.
Каганович, глядя в зал, некоторое время в забытьи стучал карандашом по графину.
Николай Иванович, сев и задиристо выставив свою бородку, ожидал, что сейчас начнется установление истины, что-то вроде его очной ставки с Радеком и Сокольниковым. Уж тогда-то он им покажет, что такое логика и диалектика, уж тогда-то он точно отбросит крышку и выберется наружу.
Но не дождался: тех тут же вывели из зала.
Все это время Сталин ходил за спинами членов Политбюро. Помалкивал. Грыз черенок потухшей трубки.
– Теперь о проблемах борьбы с проникновением троцкизма… – начал было Ежов, но Сталин, остановившийся за его спиной, тихо заметил:
– Я думаю, товарищи, что нам надо закончить вопрос с товарищем Бухариным. У кого на этот счет имеются предложения?
Встал Буденный, одернул гимнастерку, кашлянул, заговорил, растягивая слова:
– Предлагаю исключить, это самое, товарища Бухарина из Цэка нашей ленинско-сталинской партии и, это самое, из партии вообще. А такжеть предать суду Особого совещания с вынесением высшей меры, это самое, пролетарского возмездия, поскольку товарищ Бухарин не оправдал, как говорится, и опять же, вступил в сговор, а мы ему прощали и все такое прочее.
– Есть другие предложения?
Поднялся Постышев, глянул на Бухарина исподлобья.
– Предлагаю исключение, суд, но без расстрела. – И вопросительно глянул в сторону Сталина.
Теперь уже и все остальные смотрели на Сталина, ожидая его решения.
– Что ж, – заговорил Сталин, вернувшись на свое место. – Я полагаю, что надо исключить. Что касается суда, то сперва хорошенько разобраться в деле товарищей Бухарина и Рыкова. Пусть этим займется НКВД. Пусть товарищ Ежов разберется, где правда о товарище Бухарине, а где явные преувеличения, в которых его обвинил товарищ Бухарин.
Члены ЦК с явным облегчением проголосовали за это предложение Сталина.
В перерыве между заседаниями, когда Николай Иванович выходил из буфета, к нему подошел комендант Кремля:
– Попрошу вас пройти со мной, Николай Иванович, – тихо произнес он.
– Что это значит? – внутренне холодея, также тихо спросил Николай Иванович, с надеждой оглядываясь по сторонам.
– Я вам все объясню, Николай Иванович. Но не здесь же.
– Да-да, конечно, – пролепетал Бухарин и зашагал рядом с комендантом на ослабевших ногах.
«Это все, – думал он, спускаясь по лестнице. – Это конец».
И вдруг, точно наткнувшись на невидимое стекло, остановился и почувствовал такое равнодушие ко всему – и к самому себе тоже, – что даже испытал некоторое облегчение: не надо мучиться и вздрагивать от каждого визга тормозов автомобиля или урчания мотора, не надо думать о будущем, не надо ничего хотеть, кроме вечного упокоения.