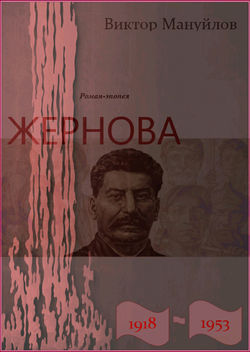Читать книгу Жернова. 1918–1953. Книга седьмая. Держава - Виктор Мануйлов - Страница 27
Часть 25
ОглавлениеГлава 1
Алексей Петрович Задонов свой отпуск проводил в Крыму, в Алуште, в доме, снятом на все лето, с женой и детьми. Даже и не отпуск – какой такой отпуск у человека свободной профессии! – а летние каникулы своих детей. На работу ему идти не нужно, Маша не работает вообще – отдыхай, сколько влезет. Были бы деньги. Деньги были. Да и в Алушту он приехал не отдыхать, а работать. Маша и дети – другое дело.
День у Алексея Петровича начинался перед обедом с купания в море и завтрака – в то время как все обедали. Затем чтение газет и кое-каких прихваченных с собою книг. Главное начиналось вечером – сидение за столом на открытой веранде при свете настольной лампы, под шелест крыльев ночных бабочек. Сидел он над рукописью нового романа, сюжет и основная идея которого ему еще не были ясны даже приблизительно. Собственно говоря, он и всегда-то так начинал – с какого-то толчка, неясной мысли, запомнившейся необычной фразы, а сюжет, идея и все прочее рождались потом, в процессе творчества. Писать по плану он не умел. И не любил. Даже свои журналистские репортажи, очерки и статьи начинал с первого, пришедшего на ум слова, уверенный, что талант – на то он и талант, чтобы самому выбирать верную дорогу. А если таланта нет, то дай такому человеку хоть какой наиподробнейший план, ни романа, ни повести, ни даже рассказа не получится, а получится – в лучшем случае – изложение на заданную тему.
– Посмотрим, – ухмылялся Алексей Петрович в минуты благодушия, – что вылупится из яичка, которое я взялся насиживать. Может вылупиться цыпленок, может гадкий утенок, может крокодильчонок или черепашонок.
Дети смеялись и не понимали, о чем говорит папа. Разве что Ляля, отсмеявшись, начинала хмурить лобик и втихомолку доискиваться до истины. Маша снисходительно улыбалась.
Критики наскакивали на Алексея Петровича за рыхлость форм, расплывчатость сюжета, но Алексей Петрович никак не реагировал на критику, а если приставали с ножом к горлу, отвечал, что пишет, как умеет, что ни лучше, ни хуже отпущенного ему природой создать не способен, что, наконец, как бы его ни критиковали, толку от этого не будет, потому что написанное – все равно, что с возу упавшее, а ненаписанное ему самому не ведомо не только в деталях, но и в принципе. Разумеется, опыт кое-что дает, но не самое главное. И вообще: ваше дело критиковать, мое дело работать. Не было бы меня и мне подобных, вам бы, уважаемые критики, пришлось бы самим писать романы, а делать этого вы не умеете, так что не пилите сук, на котором сидите.
Но критики пилили и даже изощрялись в своем благородном неистовстве, уверенные, что писатели всегда были, есть и будут, как уверены волки, что бараны никогда не переведутся и что существуют они исключительно для того, чтобы их ели. На этом критики сходились не только с волками, но и с издателями, редакторами и цензорами. Однако после того как Алексею Петровичу была вручена премия Союза писателей за книгу очерков и роман «Перековка», его слишком больно кусать остерегались, разве что пощипывали да поклевывали.
Так вот, хотя Алексей Петрович не знал наверняка, что высидит из своего яичка, однако внутренне был уверен, что высидит роман. На этот раз настолько значительный, что он составит целую эпоху в русской литературе. Тем более – в советской. Именно это ожидание усаживало Алексея Петровича за стол и наполняло все его существо ликованием неимоверным. Особенно тогда, когда из-под пера его выходили такие страницы, каких он и сам от себя не ожидал: наполненные сочной, размашистой прозой, свободно текущей и несущей в своем потоке новые чувства и новые мысли. Даже Маша, по обыкновению переписывающая по утрам его каракули, смотрела иногда на своего мужа затуманенными глазами, в которых мерцало отражение того ликования, каким был переполнен сам Алексей Петрович.
Была и еще причина для ликования: XVIII-й съезд партии подвел итоги Большой чистки, и волна арестов сразу же пошла на спад. Страх, который постоянно держал в своих тенетах душу Алексея Петровича после ареста и смерти брата, стал ослабевать, к лету ослабел настолько, что Алексей Петрович окончательно поверил, что все опасности для него позади, а впереди прямая и светлая дорога без единого ухаба и рытвины. Конечно, не проживи он предыдущие два года в этом страхе, предлежащая дорога казалась бы ему не такой уж прямой и светлой – все, как известно, познается в сравнении. Как в том анекдоте: «У вас маленькая жилплощадь? Тесно? Негде повернуться? Поселите на нее еще несколько человек, а также собаку, кошку, козу и свинью. Поживите этак-то с полгодика, затем все верните в прежнее состояние и вы почувствуете, что ваша жилплощадь не такая уж маленькая и тесная, более того, она настолько просторна, что вы можете перемещаться по ней, никого и ничего не задевая».
В состоянии приподнятости и восторга, так называемого вдохновения, Алексей Петрович жил почти все лето. На него как-то не слишком повлияли все те тревожные события, происходящие в мире, о которых он узнавал из газет: все они меркли в сравнении с тем, что он пережил за последние два-три года. И дело не только в том, что своя рубаха ближе к телу, а в том, что бродило и вызревало в глубинах его души, – или того, что ею называется, – не пуская туда ничего лишнего. Да и что лично он может противопоставить тому, что будоражило мир, разваливая одни его части и соединяя другие? Ровным счетом ничего. Ни он, ни вся мощь его страны, ни самодовольная осторожность западных демократий не могли воспрепятствовать Германии подминать под себя Восточную Европу, приближаясь к границам СССР, или Италии, захватившей Албанию, нацеливаться на Югославию и Грецию; как не смогли все эти разнонаправленные силы сохранить от гибели республиканскую Испанию. Вот разве что на востоке Красная армия какой уж месяц ведет бои с японскими войсками в районе монгольской границы у реки Халхин-Гол, и верилось, что не может она, Красная армия, не имеет права уступить японцам. Даже ценою жизней своих солдат.
Все эти события, вместе взятые, конечно, прискорбны и печальны, но сколько не скорби и не печалься, а жизнь берет свое. И есть нечто главное, что выше и важнее всего: на тебе лежит обязанность свершить такое в этой жизни, чего за тебя никто свершить не сможет. И ты должен это свершить, что бы ни происходило в этом мире. Уверенность в своей предначертанной свыше обязанности возводило прочную стену между писателем Алексеем Задоновым и всем остальным человечеством, за которой так привычно и удобно прятаться. Если что и потрясло Алексея Петровича, так это неожиданное подписание с Германией договора о взаимном ненападении сроком на десять лет.