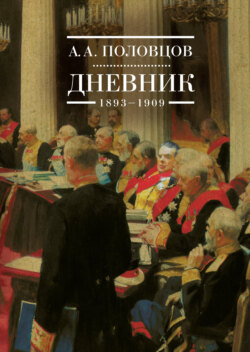Читать книгу Дневник. 1893–1909 - А.А. Половцов, А. А. Половцов - Страница 6
1893
Сентябрь
Оглавление17 сентября. Уезжаю из Петербурга вместе со старшим сыном[233]; едем до станции Грязи, где я сворачиваю по Царицынской линии и еду до станции Поворино, где сажусь в коляску, чтобы, проехав на лошадях 45 верст, достигнуть Ильменского [?] хутора, где меня ожидает младший сын[234] – студент Горного института.
Уже при выходе из вагона чувствую подагрическую боль в ногах. Боль эта вскоре усиливается до того, что ложусь в постели, где и остаюсь тринадцать дней подряд. На тринадцатый день меня сажают в носилки и обносят четыре этажа вновь построенной паровой мельницы, которая и была одной из главных целей моего путешествия [?].
На обратном пути останавливаюсь на один день в тамбовском имении (Кулики близ Моршанска), чтобы присутствовать при опытах Перье, изобретателя усовершенствованного производства спирта, и в среду 6 октября приезжаю в Петербург, еще с трудом опираясь на распухшие ноги.
Петербург застаю еще весьма пустым. Их Величества в Копенгагене.[235] Члены Государственного совета, присутствующие в департаментах, уже съехались, и при посещении меня некоторыми из них узнаю кое-какие правительственные сплетни. Всего более занимает моих сотоварищей положение, созданное себе моим приемником, государственным секретарем [236] Муравьевым. С закрытием Кодификационного отдела[237] служившие в нем лица перечислены в Государственную канцелярию, Муравьеву предоставлены все права и обязанности Фриша, то есть казенная квартира (которую он немедленно расширил), II класс должности, всеподданнейший доклад, присутствование в Комитете министров, участие в обсуждении дел Государственного совета под предлогом кодификационных справок. Ответственность в этой реформе Муравьев сваливает на меня, но не совсем справедливо. Дело было так: в начале моего секретарства, после смерти председателя Департамента законов князя Урусова[238] и назначении, если не ошибаюсь, на его место Старицкого с передачей Кодификационного отдела Фришу, был собран комитет под председательством великого князя Михаила Николаевича из Победоносцева, Сольского, Перетца, Бреверна и меня. В заседании этого комитета решено было закрыть Кодификационный отдел[239] после того, как окончено будет новое издание Свода законов[240]. Я писал журнал этого заседания и не упустил включить то, что говорилось о Кодификационном отделе. Вот и все мое участие. При этом мое предположение было: чиновников на время их занятий разместить в обширных оставшихся пустыми комнатах Мариинского дворца, а дом на Литейной[241] продать.
Покуда сижу в кресле с вытянутыми ногами, меня посещают товарищи по Совету.
Князь Имеретинский, умный, бойкий, способный человек, отличившийся в войне, неумолкаемо и остроумно рассказывающий анекдоты, в которых сильно достается ближним. На этот раз Имеретинский повторяет уже слышанный, но довольно любопытный рассказ.
Во время стояния в Сан-Стефано[242] великий князь Николай Николаевич призвал Имеретинского и сказал ему следующее: «Я очень хорошо чувствую, что потерял доверие брата, поезжай в Петербург, доложи Государю о положении дел, объясни ему, что нельзя было сделать ничего иного, как то, что я сделал, и если в заключение доклада убедишься, что тебе не удалось его разуверить, то скажи ему, что я нездоров и прошу увольнения от обязанностей главнокомандующего»[243].
«В эту минуту, как я собирался уйти», – говорит Имеретинский, великий князь меня остановил, прибавил: «Да, еще поручение: скажи Государю, что Игнатьев до того зажался[244] и заврался, что невозможно его долее оставлять в Константинополе»[245].
Имеретинский отказался принять это поручение исключительно словесно и под диктовку его записал в свою записную книжку эти слова.
По приезде в Петербург Имеретинский прямо с железной дороги поехал в Зимний дворец, где тотчас был принят императором, который, выслушав доклад Имеретинского, сказал ему: «Я более доверия к брату не имею, я решился назначить главнокомандующим Тотлебена, а тебя к нему начальником штаба. Приходи завтра на совет, который у меня соберется и пред которым ты повторишь то, что говоришь мне».
Прочтение слов об Игнатьеве никакого впечатления не произвело.
На совете этом присутствовали наследник (нынешний Государь), великие князья Владимир Александрович, Константин Николаевич, граф Милютин, князь Горчаков, Валуев, Тимашев, Рейтерн и др.
Имеретинский представил защиту действий великого князя Николая Николаевича, но, как сам говорит, защита была, конечно, ослаблена тем, что ему было известно решение Государя (при этом я вспоминаю сказанное мне по этому поводу Тимашевым, который от цесаревича слышал следующие слова: «Хорошего защитника прислал великий князь Николай Николаевич!..»).
Когда заседание совета было окончено и присутствующие начинали расходиться, то Государь спросил Имеретинского: «А ты сообщил князю Горчакову слова брата об Игнатьеве?» На отрицательный ответ последовало приказание сделать такое сообщение. Имеретинский вынул из кармана записную книжку и прочитал заявление о том, что «Игнатьев заврался и зажался».
Лицо князя Горчакова просияло; в выходных дверях он сказал Имеретинскому, которого видел в первый раз: «Мои Prince, le poste d’ambassadeur a Constantinople est vacant. Voulez-vous l’occupe?[246]».
Имеретинский, разумеется, отказался, понимая, вероятно, несерьезность такого предложения [247].
Через четыре года во время премьерства Лориса[248] весной 1881 года Имеретинский ужинал на вечере у Нелидовой, где Абаза и Лорис восхищались талантливостью проведенного ими в министры государственных имуществ графа Игнатьева.
Имеретинский рассказал то, что мной здесь записано, и возбудил против себя негодование сотоварищей графа Игнатьева по министерству.
Через несколько дней после этого ужина последовал знаменитый манифест, свергнувший Милютина, Лориса и Абазу и возведший Игнатьева на трон министра внутренних дел[249]; Имеретинский доставил себе удовольствие поехать к последнему и извиниться в том, что неделей слишком рано рассказал то, что произвело тогда против него столько незаслуженного негодования[250].
Маркус Владимир Михайлович, весьма милый, образованный и по части финансовой науки, можно сказать, ученый человек. Всегда любезен, весел, как обыкновенно бывают подобно ему тучные люди. Горько сетует на финансовую политику Витте – брать как можно более с народа, ничего не оставляя на разживу. Может ли поднять [?] экономический уровень страны при отсутствии сбережений?
Маркус, младший брат, занимавший место товарища главноуправляющего Кодификационным отделом и при уничтожении теперь этого отдела назначенный членом Совета[251]. Человек чрезвычайно скромный и даже застенчивый, но преисполненный обширных сведений в области науки права. Разговаривая с ним, я высказал мысль о том, что для меня представляется спорной мысль о необходимости издания Свода законов, вносящего поневоле и некоторую запутанность в произвольность, в формы, а тем самым и в сущность законодательства. В подтверждение правильности этой мысли Маркус сказал мне, что в Кодификационном отделе до сих пор сохранилось предание, будто бы Сперанский при изготовлении Свода законов сочинял статьи и затем приказывал своим подчиненным подыскать под написанную им статью исторические цитаты.
Дервиз, мой товарищ по Училищу правоведения[252], необыкновенно малого роста, но необыкновенно большого ума; прямой, простой, ясный, категорический, заключительный взгляд на все существенное, важное. Без всяких фраз всегда отзывчив на все хорошее, талантливый и в письменном, и в словесном изложении. С отвращением говорит о том, какие порядки заводятся в Государственном совете в видах низкопоклонства пред Государем и людьми, пользующимися его доверием.
Вышнеградский, только что вернувшийся из-за границы. Никогда со мной никаких сношений не имевший, но объезжающий город, чтобы показаться возможно большему числу людей и убедить их, что он полон здоровья и может быть при первой возможности назначен председателем Департамента экономии[253]. С этой целью был и в Гатчине.
Победоносцев. Совсем не тот Победоносцев, который в начале царствования раздавал портфели и после нескольких дней отсутствия в Аничковом дворце слышал от Государя: «Что Вас давно не видать?» Нет, теперь он совсем другой. С желчью говорит о всем, что делается, горько осуждает личный состав министерства и образ действий того, кто их выбирает. Победоносцев как будто удивлен, что после того, как он впал в немилость или по крайней мере лишился прежнего положения, я ни в чем в отношении его не переменился и, вероятно, под этим впечатлением заходит ко мне гораздо чаще прежнего. В один из визитов своих рассказывает мне, что в тот день, когда в Комитете министров докладывалось представление Вита[254] о приобретении в казну железнодорожных линий Главного общества [255], он, Победоносцев, сказал Виту: «Я здесь так давно сижу, что был свидетелем и того, как Московскую дорогу правительство продавало Главному обществу, и того, как объявлено было, что дороги будут строиться казной и принадлежать казне, и того, как вслед за тем частные общества стали строить дороги и покупать их от казны[256]»
Среди всего этого я не схватываю, какое правительство […][257] в этом вопросе оно намеревается держать направление, какой следовать линии[258].
Стоявший возле государственный контролер Филиппов, имеющий обыкновение всегда говорить в смысле угодном сильному, поспешил, хотя и не спрошенный, отвечать: «В этом-то, Константин Петрович, и мудрость правительства, что оно следует линии, хотя и кривой, но изящной».
Победоносцев: «Дай Бог, чтобы по пословице кривая вывезла».
Дурново в прежние времена, когда шла речь о том, чтобы ему попасть в Государственный совет, или когда его представления туда вносились, являвшийся ко мне по несколько раз в неделю, теперь, когда он живет возле меня, в шесть недель приехал один раз. Что за пошлое подобострастное ничтожество, подкупающее тех, кто выше его, своим подобострастием и лакейством.
Ермолов – новый министр государственных имуществ, неглупый и не лишенный образования человек, но всецело поглощенный радостью, что попал на высокий пост, и заботами о том, как бы сохранить такое приятное положение. Рассказывает как образчик регламентации, выведенной Островским в Министерстве государственных имуществ, что он, Ермолов, объезжая нынче летом государственные имущества на юге России, заметил где-то девять ив, у коих высыхали верхушки. Ермолов обратился к сопровождавшему его лесничему с замечанием о том, что верхушки эти следовало бы срезать. Оказалось, что представление о срезании этих верхушек по установленному порядку отправлено в Петербург.
Розенбах. Честный, прямодушный, благородный, израненный в последнюю войну, преисполненный лучших намерений, но весьма мало полезный член Государственного совета.
Князь Голицын[259] (по кличке Гри-Гри). Умный, сметливый, как говорится, себе на уме, толстый, вечно веселый, прегромко рассказывающий истории предпочтительно о себе самом; ловко прошедший из гусарских офицеров в члены Совета, страстный охотник, неутомимый путешественник. На этот раз повествует о своей поездке прошедшим летом на южную часть Сибири[260] и даже отчасти в пределах Китая. Сообщает подробности о Памирском вопросе[261], который много помог ему попасть в Совет[262], о переселенцах[263], о Сибирской железной дороге и так далее. Вообще Голицын охотник до модных вопросов.
Воронцов-Дашков – старинный мой приятель, превосходнейший человек, но не созданный ни для какого административного поста, хотя, разумеется, воображает совсем противное. Проводим вечер вдвоем, и чтобы не затрагивать современных личностей и вопросов, я направляю разговор на события последней войны[264]. Воронцов рассказывает ужасные истории о бездарности наших генералов, в особенности покойного великого князя Николая Николаевича. Немало достается и Банковскому, который был начальником штаба в отряде цесаревича[265].
Великий князь Михаил Николаевич заходит ко мне по преимуществу во дни заседаний Государственного совета. Очень доволен временем, проведенным в Шверине у дочери[266] в обществе сына[267] и морганатической невестки[268], от которой мой великий князь в восхищении. Грустит, что у него нет ни одного женатого сына[269], который мог бы жить с ним и несколько ослабить грустную сторону его одиночества. О Государственном совете и переменах невзрачного свойства, в нем совершающихся, не говорим. Он и равнодушен, и бессилен. Другое дело, приглашение к Государю на охоту или повышение чином одного из сыновей. Такие факты производят большое оживление.
Между другой категорией посетителей приезжает мой двоюродный брат Татищев[270], присутствовавший в качестве журналиста на парижском приеме наших моряков[271].
Рассказывает некрасивые вещи про Моренгейма, который уличен французским правительством в получении денег из панамской кассы[272]по чеку, выданному на имя Раф.[273], то есть Рафаловича[274].
Рибо проговорился об этом в палате[275] и слетел из министерства[276]. Моренгейм требовал от Рибо журнального о содержании сделанного им заявления опровержения. Рибо исполнил желание Моренгейма, который вслед за тем заявил, что не считает себя удовлетворенным, и стал поносить французское правительство и лиц, его составляющих, желая себя оправдать таким образом. Вследствие такого образа действий правительство стало в дурные, почти враждебные отношения к Моренгейму, так что во время угощения наших моряков в Париже у французского правительства постоянно был страх, чтобы Моренгейм не возбудил какого-либо неприятного для французского правительства инцидента.
Великий князь Владимир Александрович, вернувшись из Парижа, где мы за последние годы имели обыкновение встречаться осенью и проводить некоторое время, приезжает завтракать к нам на Большую Морскую[277] во вторник 9 ноября. Он в восхищении от своего путешествия по Испании и на Балеарские острова, очень доволен радушным приемом, оказанным ему в Париже, охотами у герцога Омальского, у Грефюля[278], у Сомье[279] в знаменитом замке Во[280]. В Берлине был он весьма любезно принят германским императором, который не принимает к сердцу оваций нашим морякам во Франции, но весьма недоволен тем, что в самый день входа русской эскадры в Тулон[281] наш Государь в подробности осматривал французское военное судно[282], прибывшее в Копенгаген. Наш Государь объясняет, что совпадение это вышло совершенно случайно, что на просьбу французского капитана осмотреть его судно Государь отвечал, что сделает это при первом удобном случае и исполнил свое обещание, послав из Фреденсборга в Копенгаген к обедне[283]. Судно было действительно интересно для […][284], потому что было построено с применением всех наипоследнейших изображений и усовершенствований.
При этом Владимир Александрович рассказывает, что Государь ему сообщал о письме, полученном из Америки от какого-то поселившегося там серба, который пишет, что рядом с его деревенским домом русские эмигранты, коих он поименовывает, делают над разными животными пробы действия вновь изобретенных ими бомб, чрезвычайно разрушительных и вместе с тем малообъемистых.
В разговоре с Владимиром Александровичем предваряю его о вновь вышедшей в Лондоне брошюре под заглавием «Конституция графа Лорис-Меликова»[285], в которой напечатано письмо, полученное великим князем от Государя по поводу знаменитого манифеста, вызвавшего отставку Лориса, Милютина и Абазы.
Великий князь отвечает, что письмо такого содержания он действительно получил, но никогда никому не показывал, и письмо это, как все письма от Государя, хранится у него в особом портфеле.
Вслед за тем великий князь присылает мне подлинник этого письма, вот его содержание:
«Гатчина 27 апреля
1881 г.
Посылаю тебе, любезный Владимир, мной одобренный проект манифеста; я желаю, чтобы вышел 29 апреля, в день приезда моего в столицу. Я давно долго[286] об этом думал, но многие отсоветовали, и министры все обещали мне своими действиями заменить манифест, но так как я не могу добиться никаких решительных действий от них, а, между прочим, шатание умов продолжается все более и более, и многие ждут чего-то необыкновенного, то я решился обратиться к К.П. Победоносцеву составить мне проект манифеста, в котором бы высказано было ясно, какое направление делам желаю я дать и что никогда не допущу ограничения самодержавной власти, которую нахожу нужной и полезной России. Кажется, манифест составлен очень хорошо; он был вполне одобрен графом С. Г. Строгановым, который тоже нашел своевременность подобного акта. Сегодня я лично прочел манифест А. В. Адлербергу, который тоже вполне одобрил его, и так, дай Бог, в добрый час!
Сегодня имел объяснение с графом А. В. Адлебергом, результатом которого было, что он просится сам оставить место министра. Несмотря на то, что он очень грустен, но все объяснение и весь разговор был самый дружественный, и расстались друзьями. Решили так, что он останется до выбора мной нового министра и до окончания им всех дел по завещанию Папа. При личном с тобой свидании передам все подробности и мои намерения.
До свиданья, Твой брат Саша
Пришли мне обратно проект».
В брошюре Лорис-Меликова второй части письма не существует, а первая изложена с некоторыми изменениями и перемещениями слов, как будто передавал содержание письма кто-нибудь на память, не имея под глазами оригинала[287]. Великий князь не понимает, как могло письмо это попасть в печать, когда со дня получения оно не выходило из ящика письменного стола.
233
Речь идет об А. А. Половцове.
234
Имеется в виду П. А. Половцов.
235
Осенью 1893 г. Александр III, императрица Мария Федоровна и цесаревич Николай Александрович посетили Копенгаген. Они пробыли там с 29 августа по 6 октября 1893 г.
236
А. А. Половцов занимал этот пост с 1883 по 1892 г.
237
Кодификационный отдел Государственного совета был упразднен именным указом от 18 сентября 1893 г. в связи с передачей дела кодификации законов в ведение Государственной канцелярии.
238
С. Н. Урусов скончался 13 января 1883 г.
239
Половцов подробно описал эти события в дневнике за 1883 г. Упомянутое совещание у великого князя Михаила Николаевича собралось 2 марта. В нем приняли участие Половцов, Э. Т. Баранов, М. X. Рейтерн, Д. М. Сольский, Е. П. Старицкий, Е. А. Перетц, Д. Н. Набоков и Е. Г. Бреверн. Все присутствовавшие говорили о невозможности соединения должностей государственного секретаря и управляющего Кодификационным отделом. При этом Сольский высказал мысль, что после издания Свода законов не будет необходимости для самостоятельного существования Кодификационного отдела. На это Половцов возразил, что, принимая во внимание предстоящую обширную деятельность отдела, «не может идти речи» об его объединении с Государственной канцелярией. Подробнее см.: Половцов. Т. I. С. 60–62, 64–65, 67.
240
Свод законов Российской империи – официальное собрание действующих законодательных актов Российской империи, расположенных в тематическом порядке. Первое издание было подготовлено II отделением Государственной канцелярии в 1832 г. Это и последующие издания 1842 и 1857 гг. состояли из 15 томов. Между изданиями Свода законов выходили ежегодные и сводные (за несколько лет) продолжения Свода законов с указанием на упраздненные и измененные статьи. После 1857 г. Свод законов полностью не переиздавался, а выходили лишь отдельные тома (так называемые неполные издания Свода законов).
Половцов имел в виду неполное издание 1892 г. (в нем был добавлен 16 том – Судебные уставы 1864 г.).
241
Речь идет о здании Государственной канцелярии, которое располагалось на Литейном проспекте, в доме № 44.
242
Стояние в Сан-Стефано – заключительный период в ходе русско-турецкой войны 1877–1878 гг. Успешные военные действия русской армии подтолкнули турецкое правительство к началу мирных переговоров, в результате которых был подписан предварительный договор в Адрианополе (19 января). Между тем Англия, опасаясь усиления России на Балканах, направила эскадру в Дарденеллы. В дальнейшие планы британского правительства входило ввести войска и в Константинополь. В ответ русское командование по согласованию с турками заняло местечко Сан-Стефано близ столицы Османской империи. Туда же была перенесена Главная квартира. Русское правительство, чтобы опередить англичан, начало переговоры с турецкими властями о занятии Константинополя. В итоге конфликт с Англией был урегулирован, но России не удалось закрепиться в этом регионе.
243
Об этих событиях писали в дневниках Д. А. Милютин и М. А. Газенкампф. Милютин, занимавший пост военного министра, участвовал в совещаниях на высшем уровне, где обсуждались военные проблемы. Газенкампф был одним из приближенных Верховного главнокомандующего. В дневнике он передавал подробности происходившего в Главной квартире русской армии и приводил письма и телеграммы из корреспонденции великого князя Николая Николаевича. В марте 1878 г., во время стояния в Сан-Стефано, в правительственных кругах утвердилась идея о необходимости занятия Босфора. Великий князь Николай Николаевич находил, что в той ситуации подобные планы никак не могли быть реализованы из-за позиции Англии, готовой в любой момент начать войну против России. Ситуация усугублялась тем, что турецкое правительство усиливало оборону Константинополя. Главнокомандующий имел основания полагать, что турецкие власти могли в разорвать мирный договор и выступить в войне на стороне Англии. К тому же, описывая состояние русских войск, великий князь Николай Николаевич отмечал изнеможение солдат, их нежелание возобновлять боевые действия. Между тем, по сообщению Газенкампфа, великий князь не высказался категорично против захвата Босфора: «Не решившись сразу <…> отвергнуть фантастический план захвата Босфора, он дал этому плану возможность развиться и укрепиться в Петербурге» (Газенкампф. С. 540). В результате, когда 17 марта великий князь получил от военного министра телеграмму с приказанием разместить артиллерию на берегах Босфора (с. 540), он не исполнил сразу требование, понимая ошибочность такого шага. После того, как было приказано осуществить «фантазию» о захвате Босфора «немедленно», – комментировал ситуацию Газенкампф, – великому князю все-таки «придется объяснить, что это немыслимо, и он же останется виноват» (с. 540–451). Верховному главнокомандующему действительно пришлось изложить «местные препятствия» к выполнению приказа более определенно. В ответ 21 марта Александр II высказал предположение, что здоровье князя подорвано и не «позволяет» ему «продолжать командование армией с должной энергией» (с. 549). По сообщению Газенкампфа, «вопрос этот, подвергая сомнению способность великого князя исполнять царские указания, глубоко задел его за живое» (с. 553). «Злополучная идея захвата Босфора поставила бедного великого князя в безвыходно-трагическое положение. Теперь он будет виноват, что этого не сделал; а если бы беспрекословно исполнил повеление – был бы виноват, что не сумел», – отмечал автор дневника (с. 584). Попав в столь сложную ситуацию, великий князь Николай Николаевич отправил к императору А. К. Имеретинского с объяснением положения дел и «поручением» (с. 560–561). Великий князь возлагал «большие надежды на действительно мастерское уменье князя Имеретинского говорить и убеждать», но, по мнению Газенкампфа, главнокомандующий «по добродушию своему напрасно» рассчитывал «на его (Имеретинского. – О.Г) личное к себе расположение: князь Имеретинский его адвокатом не будет» (с. 560). По всей видимости, Половцов верно передал эту историю со слов самого Имеретинского, поскольку, не дождавшись прибытия посланника в Петербург, 27 марта великий князь отправил Александру II телеграмму, в которой он просил об отставке, ссылаясь на тяжелое состояние здоровья. «Я вижу, – писал он, – что при всем желании в таком положении теперь не могу быть полезным тебе слугой. С нетерпением буду ждать твоего решения о замене меня кем-либо другим и вызове скорей отсюда» (с. 562–563). В данном контексте выглядит весьма убедительной информация о том, что Имеретинский не мог должным образом защищать великого князя Николая Николаевича, так как решение о его отставке было принято еще до прибытия посланника к императору. Интересно, что Милютин записал в дневнике 2 апреля: «Вчера вечером приехал князь Имеретинский с поручением от великого князя Николая Николаевича». Благодаря его умению «хорошо и правильно говорить», рассказ Имеретинского «произвел сильное впечатление на Государя». Император «увидел, что дело это (захват Босфора. – О.Г) не только нелегкое, но даже едва ли возможное» при сложившихся обстоятельствах (Милютин. С. 404). В итоге Александр II отказался от идеи овладения проливом. Тем не менее просьба великого князя Николая Николаевича была исполнена: «Увольняя тебя, согласно твоему желанию, от командования действующей армией, произвожу тебя в генерал-фельдмаршалы в воздаяние столь славно оконченной кампании», – написал ему император в ночь с 15 на 16 апреля (Газенкампф. С. 593).
244
Так в оригинале.
245
Речь идет о Н. П. Игнатьеве.
246
«Мой князь, пост посла в Константинополе свободен. Не хотели бы Вы его занять?» (фр.).
247
Пост чрезвычайного и полномочного посла в Константинополе 20 апреля 1878 г. получил А. Б. Лобанов-Ростовский.
248
Имеется в виду период 1880 – начала 1881 гг., когда М. Т. Лорис-Меликов был назначен начальником Верховной распорядительной комиссии, фактически получив при этом диктаторские полномочия. Вскоре по инициативе самого Лорис-Меликова комиссия прекратила работу, но вслед за тем он получил посты министра внутренних дел и шефа жандармов. В данный период полномочия Лорис-Меликова были настолько обширными, что Половцов назвал его «премьером».
249
Речь идет о манифесте Александра III «О призыве всех верных подданных к служению верой и правдой Его Императорскому Величеству и государству, к искоренению гнусной крамолы, к утверждению веры и нравственности, доброму воспитанию детей, к истреблению неправды и хищения, к водворению порядка и правды в действии учреждений России» от 29 апреля 1881 г. (в историографии он известен как «О незыблемости самодержавия»). В манифесте говорилось о «мученической кончине» Александра II и стремлении «к искоренению гнусной крамолы, позорящей землю Русскую» и приведшей к убийству императора. Главный акцент был сделан на необходимости «утверждать и охранять» самодержавную власть «для блага народного от всяких на нее поползновений» (ПСЗ. Собр. III. Т. 1. С. 53–54. № 118). Министры либерального направления – Лорис-Меликов, Милютин и Абаза – после издания манифеста подали в отставку. М. Т. Лорис-Меликова на посту министра внутренних дел сменил Игнатьев.
250
Далее Половоцов продолжил перечисление «товарищей по Совету», которые посетили его во время болезни.
251
Речь идет о назначении Ф. М. Маркуса членом Государственного совета, которое состоялось 18 сентября 1893 г.
252
Д. Г. фон Дервиз окончил Императорское училище правоведения в 1850 г., Половцов – в 1851 г.
253
С весны 1892 г. И. А. Вышнеградский серьезно болел, вследствие этого в августе того же года был вынужден оставить пост министра финансов. В Петербурге распространились слухи, что болезнь отразилась на его умственных способностях. А. В. Богданович писала: «Дурново говорил у Селифонтова, что Вышнеградский смотрит безучастно, не видит входящих в комнату и находится все время в полусне». Одним из виновников подробного рода слухов был С. Ю. Витте, претендовавший на пост министра финансов и занявший его после отставки Вышнеградского. Та же Богданович отмечала в дневнике: «Витте кому-то сказал, что уже два года он замечал, что Вышнеградский ненормален, а что уже полгода, как он совсем сумасшедший». В обществе распространился слух о том, что министр на одном из докладов Александру III не узнал его. В кабинете императора стояли два кресла друг напротив друга. В одном обычно сидел император, второе предназначалось для министра-докладчика. Вышнеградский, войдя в кабинет, по привычке низко поклонился императору, но поклонился он пустому креслу, так как «царь в эту минуту стоял у окна и удивленно на него смотрел». Когда Вышнеградский начал читать доклад, то «у него двоились строчки, он все извинялся и, наконец, совсем спутался и начал говорить по-английски» (Богданович, 8 апреля 1892 г. С. 174). Факт поклона пустому креслу подтверждается и в других источниках. В. А. Грингмут привел в одном из писем следующую информацию. Витте, присутствовавший на докладе, попросил у императора позволения закончить доклад, что и сделал «блестящим образом», «к удивлению и удовольствию Государя». «Одним этим шагом С[ергей] Ю[льевич] сразу выдвинулся вперед и считается теперь наиболее серьезным кандидатом», – комментировал происшедшее Грингмут. Вышнеградский же «впал в полусознательное, сонливое состояние, так что не мог последовать приглашению Государя принять участие в завтраке». Эти события произвели «страшный переполох в Гатчине» (Письмо В. А. Грингмута В. А. Петровскому. 30 марта 1892 г. // ОР РГБ. Ф. 224 (С. А. Петровский). Карт. 1. Д. 39. Л. 7–7 об.). В данном контексте становится понятным, что, как сообщал Половцов, Вышнеградский делал многочисленные визиты, чтобы опровергнуть слухи о собственном нездоровье. 1 января 1894 г. он был назначен присутствовать в Департаменте законов.
254
Имеется в виду С. Ю. Витте.
255
Имеется в виду Главное общество российских железных дорог.
256
Вопрос о передаче Николаевской дороги в частные руки на 85 лет был поднят в 1867 г. министром финансов М.Х. Рейтерном.
257
Слово неразборчиво.
258
Так в тексте.
259
Речь идет о Г. С. Голицыне.
260
Так в тексте.
261
Памирский вопрос – проблема урегулирования ряда спорных территорий между Россией и Англией в области Памира. Этот вопрос был тесно связан с проблемами англо-российского соперничества и утверждения России в Средней Азии. Впервые он возник в 1876 г. после окончательного покорения Россией Кокандского ханства, в которое входил и Памир. Некоторое время данный вопрос оставался открытым. Англия после войны с Афганистаном (1878–1880 гг.) побудила афганского эмира к захвату ряда памирских ханств (Шугнана и Вахана). Одновременно русские и англичане под видом научных экспедиций стали направлять разведчиков и посланцев к правителям этих ханств. В 1890 г. в Кашгар прибыла из Индии английская миссия для переговоров с китайскими властями о разделе Памира. Чтобы не допустить такого раздела в 1891–1895 гг. русские войска совершили серию военных экспедиций на Памир. Основная цель походов – утверждение в этой высокогорной области российского владычества и ослабление в ней английского влияния. Успехи русских на Памире вынудили Англию начать дипломатические переговоры. В результате обмена нотами между правительствами соперничавших государств в начале марта 1895 г. р. Пяндж стала пограничной между русскими и афганскими владениями. С июля начались разграничительные работы между Россией и Афганистаном.
262
Назначение Голицына членом Государственного совета состоялось 1 января 1893 г. Вопрос о его включении в состав членов Совета поднимался еще в 1890 г., о чем Половцов рассказал в дневнике. В декабре 1890 г., когда возникла необходимость расширить состав членов Гражданского департамента Государственного совета, великий князь Михаил Николаевич и Александр III считали необходимым назначить разных кандидатов. В качестве компромисса великий князь предложил кандидатуру Голицына, которая получила поддержку императора. Но Половцов, который должен был составить указ о соответствующем назначении, убедил Александра III, что в связи с отсутствием у Голицына юридического образования от его деятельности в Гражданском департаменте не будет пользы. Соответствующий указ так и не был составлен. Подробнее см.: Половцов. Т. II. С. 357–360.
263
В рассматриваемый период действовал закон 13 июня 1889 г., ограничивавший переселение крестьян. В соответствии с этим законом переселение допускалось только с предварительного разрешения, которое выдавалось министрами внутренних дел и государственных имуществ лишь при наличии обоснованных причин (которые в законе не были установлены) и в том случае, если имелись свободные земельные участки. Самовольные переселенцы должны были отправляться местной администрацией на прежние места жительства. Несмотря на это, количество переселенцев росло с каждым годом. Начавшаяся в 1891 г. постройка Сибирской железной дороги поставила на повестку дня вопрос о заселении Сибири. Переселением в Сибирь занимался Комитет Сибирской железной дороги, который облегчал устройство переселенцев на новых местах жительства, а также выделял им ссуды и земли вдоль строившейся железной дороги.
264
Имеется в виду русско-турецкая война 1877–1878 гг.
265
Во время русско-турецкой войны 1877–1878 гг. П.С. Ванновский с 27 июня 1877 г. занимал должность начальника штаба Рущукского отряда, во главе которого стоял наследник цесаревич Александр Александрович (будущий Александр III).
266
Дочь великого князя Михаила Николаевича Анастасия была замужем (с 1879 г.) за герцогом Фридрихом Мекленбург-Шверинским.
267
Второй сын князя Михаил Михайлович в феврале 1891 г. без согласия родителей и императора Александра III женился на внучке А. С.Пушкина С. Н. Нассауской, графине Меренберг де Торби. За этот морганатический брак ему был запрещен въезд в Россию. Жил в Лондоне, последние годы – на французской Ривьере. В 1909 г. был прощен, но в Россию не вернулся.
268
Имеется в виду С. Н. Нассауская.
269
В 1893 г. у великого князя Михаила Николаевич было шестеро сыновей: Николай, Михаил, Георгий, Александр, Сергей и Алексей. Из них женился к тому времени только упомянутый Половцовым великий князь Михаил Михайлович.
270
С.С. Татищев специально приехал во Францию в качестве корреспондента от журнала «Русский вестник».
271
Речь идет о посещении контр-адмиралом Ф. К. Авеланом с морскими офицерами Парижа в октябре 1893 г. в ходе визита русской эскадры в Тулон (подробнее см. комментарий 52).
272
Здесь Половцов затрагивает события неудачного строительства Панамского канала французской компанией и последовавшего затем крупного коррупционного скандала. В 1879 г. Парижское географическое общество учредило Всеобщую компанию межокеанского канала под председательством Ф. Лессепса для строительства Панамского канала. Акции компании приобрели свыше восьмиста тысяч человек. В феврале 1881 г. начались работы по сооружению канала. К 1888 г. на строительство было истрачено почти в два раза больше средств, чем предполагалось, между тем выполненной оказалась только третья часть всех работ. Компания была вынуждена приостановить сооружение канала, прекратила платежи. Крах предприятия вызвал банкротство, разорение десятков тысяч мелких держателей акций. В ходе судебного разбирательства дела в 1889–1893 гг. выяснилось, что члены компании, оказавшись в трудном финансовом положении, систематически подкупали влиятельных должностных лиц и политических деятелей, редакторов газет и т. д.
Половцов имеет в виду, что русский посол в Париже А. П. Моренгейм оказался причастным к этим событиям. Не вполне понятно, соответствует ли данная информация действительности.
Богданович 24 декабря 1892 г. записала в дневнике: А. П. Коломнин «говорил, что получают депеши из Парижа, что Моренгейм замешан в панамском деле, что получил деньги через Флоке [имеется в виду Ш.Т. Флоке – О.Г.]. Цензура это зачеркивает. Вообще панамское дело сильно разгорается и заденет еще немало лиц» (Богданович. С. 180). В то же время историк А. А. Керсновский утверждал, что участие Моренгейма в панамском деле основано на домыслах. «В списке „панамистов“, – отмечал он, – значился загадочный инициал, М“», вследствие этого «часть французского общественного мнения, не без участия русских нигилистов, заподозрила российского посла в Париже барона Моренгейма». Император Вильгельм II выступил в поддержку Моренгейма, пытаясь с помощью этого инцидента спровоцировать конфликт между французским и русским правительствами и, таким образом, не допустить оформление союза между государствами (Керсновский А. А. История русской армии. Т. 3. С. 8–9).
273
Так в оригинале.
274
Имеется в виду один из представителей банкирского дома Рафаловичей.
275
Речь идет о палате депутатов Национального собрания Франции. По Конституции 1875 г. законодательная власть в государстве принадлежала парламенту – Национальному собранию. Собрание состояло из Палаты депутатов и Сената. Сенат избирался на девять лет и каждые три года обновлялся на одну треть. Палата депутатов избиралась на четыре года.
276
А. Рибо занимал должность премьер-министра Франции с 6 декабря 1892 по 4 апреля 1893 г. Министерство Рибо пало вследствие несогласия между Палатой депутатов и Сенатом по вопросу о бюджете.
277
Имеется в виду особняк Половцова в Петербурге на Большой Морской улице (д. 52). Семье Половцовых дом принадлежал с 1864 г. Особняк был куплен на деньги приемных родителей жены Половцова Н. М. Июневой. Этот дом богатством интерьеров и количеством редких вещей напоминал музей. Подробнее см.: Житнева Н. В. Особняк А. А. Половцова (Санкт-Петербургский дом архитектора). СПб., 1997. 28–29, 44–64, 73-128.
278
Речь идет о герцоге Генрихе Омальском, принце Орлеанском, и парижском знакомом Половцова и великого князя Владимира Александровича неком Грефюле. У обоих Половцов и великий князь неоднократно бывали, как правило, с целью поохотиться. Краткие упоминания об этом встречаются на страницах дневника Половцова, когда он был государственным секретарем. См.: Половцов. Т. I. С. 127, 153, 159, 269, 371, 463, 478. По-видимому, Половцов также интересовался историческими работами герцога Омальского, так как 5 февраля 1886 г. записал, что получил в подарок его книгу «Histoire des princes de Conde» (См.: Histoire des princes de Conde pendant les XVIe et XVIIe siecles. Paris, Calmann Levy, 1863–1896, 7 v. – «История принцев Конде в XVI и XVII вв.») (Половцов. С. 419).
279
Имеется в виду А. Сомье.
280
Имеется в виду замок Во-ле-Виконт.
281
Визит русской эскадры в Тулон в октябре 1893 г. под командованием контр-адмирала Авелана стал ответом на посещение французскими военными кораблями Кронштадта в июле 1891 г. Обе встречи состоялись в рамках мероприятий по заключению русско-французского союза в 1891–1893 гг. 1 октября 1893 г. эскадра в составе броненосца «Император Николай I», крейсеров «Адмирал Нахимов», «Память Азова» и «Рында» и канонерской лодки «Терек» прибыла в Тулон. Французское правительство организовало торжественный прием. На пристани русских моряков встретили представители французского Главного морского штаба и старшие офицеры тулонского порта. Прозвучал гимн Российской империи «Боже, царя храни», раздавались крики: «Да здравствует царь!», «Да здравствует Россия!». В ходе визита Авелан и пятьдесят моряков, выбранных по жребию, посетили Париж, где были устроены празднества в честь русских флотоводцев. Они встретились с президентом Франции С. Карно.
282
1 октября 1893 г., в тот день, когда русская эскадра вошла в Тулон, Александр III, Мария Федоровна и цесаревич прибыли из Фреденсборга в Копенгаген. Император с семьей принял участие в церемонии закладки новой яхты «Штандарт», затем Александр III с наследником и свитой посетил французский броненосец «Isly». Когда император покидал судно, яхта «Полярная звезда» отсалютовала «Isly» тридцатью выстрелами, и в тот же день президент Франции С. Карно и Александр III обменялись телеграммами. Это событие подняло значение тулонского визита.
283
Так в тексте.
284
Слово неразборчиво.
285
Эта анонимная брошюра издана Фондом вольной русской прессы и представляет собой апологию М. Т. Лорис-Меликова. Возможно, автором ее был ученый М. М. Ковалевский, об этом пишет Б. Э. Нольде (см.: Нольде Б. Э. Совет Министров 8 марта 1881 г. Рассказ графа Лорис-Меликова В. А. Бильбасову // Былое. 1918. № 4–5 (32–33). С. 187). Брошюра содержит биографические сведения о Лорис-Меликове, рассказывает о его деятельности на Кавказе, в ходе русско-турецкой войны, на постах харьковского генерал-губернатора, начальника Верховной распорядительной комиссии и министра внутренних дел. В тексте приведено письмо Лорис-Меликова, характеризующее русско-турецкую войну 1877–1878 гг., текст его доклада 6 марта 1881 г., содержащий изложение плана преобразований, предложенных Александру II 28 января 1881 г., и некоторые другие документы (Конституция графа Лорис-Меликова. Лондон: Издание вольной русской прессы, 1893. С. 36–41). Брошюра неоднократно переиздавалась за границей. В издании 1904 г. в Берлине в качестве приложения помещены личные письма Лорис-Меликова. См.: Конституция графа Лорис-Меликова и его частные письма. Берлин: Г. Штейниц, 1904.
286
Слово «долго» вписано над строкой, вероятно, «давно» должно быть зачеркнуто.
287
В брошюре приведенное в дневнике письмо изложено практически слово в слово. Маловероятно, чтобы с такой точностью его можно было пересказать по памяти. Но, как верно отмечает Половцов, выпущена вторая часть послания со слов «Сегодня имел объяснение с графом А. В. Адлебергом» (Конституция графа Лорис-Меликова. Лондон: Издание вольной русской прессы, 1893. С. 34).