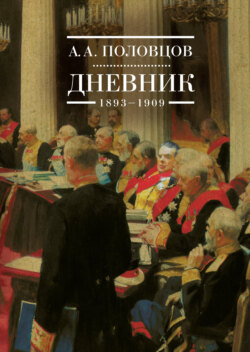Читать книгу Дневник. 1893–1909 - А.А. Половцов, А. А. Половцов - Страница 9
1894
Январь
Оглавление16 января. Воскресенье. Возвращаемся из Парижа. Проездом через Берлин вижу толпы народа, вышедшего навстречу Бисмарку, приезжающему в Берлин к императору для засвидетельствования происшедшей между ними мировой сделки[310]. В тот же день обедаю у Шувалова с Паленом и ведущим здесь торговые переговоры[311] Тимирязевым. Пред обедом, стоя у окна посольского дома, видим отъезд Бисмарка в закрытой карете, сопровождаемой двумя взводами кирасиров[312]. На улице опять толпа народа. Тимирязев сообщает об успешном ходе мирных для прекращения тарифной войны[313] переговоров.
Подъезжая к Петербургу, читаю в газетах о помолвке великой княгини Ксении Александровны с великим князем Александром Михайловичем, чего усердно добивался великий князь Михаил Николаевич. В Царском Селе встречают нас Саша и Пит[314].
Приехавший ко мне с визитом Манасеин рассказывает следующий интересный эпизод.
Когда был решен вопрос об увольнении его от обязанностей министра юстиции, то он на докладе сказал Государю, что имеет к нему сердечную всенижайшую просьбу о назначении сенатором Красовского, ближайшего его сотрудника в качестве директора Департамента Министерства юстиции.
Государь нахмурил брови, но тем не менее сказал: «Пожалуй».
Манасеин немедленно вынул из портфеля заранее приготовленный проект указа об этом назначении. Государь подписал указ, и обрадованный Манасеин тотчас вернулся в Петербург и объявил Красовскому о последовавшей милости. Вслед за Манасеиным взошел в государев кабинет Витте. Через час по возвращении в Петербург Манасеин получил телеграмму: «Назначением Красовского приостановиться. Александр».
На следующей неделе, явившись на доклад, Манасеин, по совету Победоносцева, не говорил ни слова о Красовском, и по окончании дел Государь начал сам разговор так: «Это вовсе не такой человек, которого можно было бы назначить сенатором».
Манасеин: «Он чрезвычайно даровитый человек, принесший большую пользу».
Государь: «Он имел историю в Чернигове». Манасеин: «Да. Он на выборах сказал подошедшему к нему в нетрезвом виде человеку: „Отойдите, мерзавец“».
Государь: «Он имел истории с Анастасьевым». Манасеин читает подлинный рапорт Анастасьева Сенату, в котором пьяница, о котором идет речь, изображается как мерзавец.
Государь: «Красовский – либерал. Все эти либералы получают казенное жалованье и бранят правительство… Пускай лишится жалованья. Вот посмотрим».
Молчание.
Государь: «Это, верно, Вас Половцов просил».
Манасеин: «Нет, Половцов мне ни слова не говорил».
Государь: «Это его любимый протеже».
Разумеется, все это результат наговоров таких дрянных людишек, как Дурново, раздосадованного моей речью по делу о неотчуждаемости крестьянской земли[315]; но любопытно при этом, что обвинение выставляется не в реакционаризме, а в либерализме. Что за спутанность понятий!
Около пяти часов заезжаю к великому князю Владимиру Александровичу, которого застаю весьма взволнованным болезнью Государя. Как передает великий князь, Государь уже три недели хворал инфлуенцией [316], но не принимал никаких врачебных предосторожностей, а продолжал выезжать в открытом экипаже, и в прошлый четверг, приняв горячую ванну, уселся для обычных занятий в маленькой, весьма холодной комнате Аничковского дворца. На другой день открылось воспаление легких. Врач Государя, весьма бездарный и ограниченный Гирш, не пользуется никаким пред своим пациентом авторитетом. Воронцов вызвал из Москвы доктора Захарьина и привез его в Аничков дворец. Захарьин объявил, что положение серьезное, что выздоровление во всяком случае будет продолжительное.
Передавая мне все это, великий князь возбудил вопрос о необходимости освободить Государя от заботы о том, что накопляются ежедневно присылаемые ему бумаги. Я сказал, что не вижу иного средства как передачи права резолюций на все эти бесчисленные доклады наследнику цесаревичу и при этом, как на подтверждение своего мнения, сослался на распоряжение, сделанное императором Николаем в 1844 году при отъезде в Палермо[317] о передаче управления цесаревичу Александру Николаевичу, имевшему тот самый двадцатипятилетний возраст[318], в котором ныне находится наследник престола.
Разговор наш по этому вопросу был прерван внезапно вошедшим великим князем Павлом Александровичем, который приехал на только что отмененный детский бал.
17 января. Понедельник. Еду по давнишнему обыкновению завтракать к великому князю Владимиру Александровичу, но застаю там многочисленный прием поздравителей по случаю дня рождения дочери Елены Владимировны; что я позабыл или, правильнее говоря, намеренно игнорирую, чтобы не усложнять частыми поздравлениями многочисленных членов императорской фамилии свою уединенную ныне жизнь.
К часу являюсь в Мариинский дворец (это наименование правильнее, чем слова «Государственный совет»). Иду по обыкновению надевать мундир в уборной государственного секретаря и разговариваю с Плеве, когда служитель приходит доложить о приезде великого князя Михаила Николаевича. Иду к нему на встречу, чтобы поздравить с помолвкой его сына. Одновременно с великим князем Михаилом Николаевичем приезжают Владимир и Алексей Александровичи. При входе их в залу Департамента экономии, служащую приемной председателя, начинается следующий разговор.
Михаил Николаевич, обращаясь к Плеве: «Вот братья Государя желали бы на время его выздоровления избавить его от всяких занятий. Александр Александрович (указывая на меня) приводит на справку передачу дел Николаем Павловичем во время путешествия. Может быть, Вы можете еще приискать справки?
Я указываю на пример осени 1844 года как наиболее мне памятный, и при том оставивший след в нашем законодательстве, потому что в Полном собрании законов[319] Вы можете видеть, что доклады утверждались так: «По соизволению Его Императорского Величества наследник цесаревич утвердить соизволил».[320]
Великий князь Алексей: «Но я помню, что Константин Николаевич во время отсутствия Государя исполнял эти обязанности при участии двух ассистентов».
Я: «Это было, Ваше Высочество, во время последней войны, когда наследник находился на театре военных действий».
Михаил Николаевич: «А я помню, что в 1861 году было поручено мне приглашать министров для обсуждения дел во время отсутствия Государя».
В это время приезжает наследник, и разговор сосредотачивается на здоровье Государя, несколько улучшившемся.
Во время заседания великий князь присылает мне приказание зайти по окончании заседания к нему в кабинет. По дороге туда встречаю Сольского и Перетца, сообщающих, что все мы приглашены для обсуждения вопроса о временном исполнении наследником обязанностей правителя.
Сольский настаивает на комиссии, я возражаю ему, что нет никакого основания оскорблять самолюбие молодого человека, который по нашим законам мог бы уже целые десять лет самодержавно над нами царствовать, что такими мерами накопляется в сердце горечь, творящая характер Павла Петровича[321], что смысл наших законов о направлении, в коем переходит власть, слишком ясен и что неуместно возбуждать вопрос, который даже и в Англии в XVIII столетия произвел смуты, а у нас мог бы иметь великие неудобства.
Тогда Сольский переходит на другую ноту и выражает опасение о том, что множество ежедневно вступающих бумаг может показаться обременительными для цесаревича. На это я ему возражаю, что он совсем не в тоне, что, напротив, цесаревич будет очень доволен получением занятий, ныне для него весьма недостаточных. Усматривая возможность таким путем понравиться, Сольский немедленно со мной соглашается.
В кабинете великого князя совещание пополняется присутствием Бунге, который участие свое выражает лишь обещанием собрать справки.
Великий князь Михаил Николаевич поручает ему переслать эти справки непосредственно цесаревичу, вероятно, чтобы избегнуть для самого себя малейшего прикосновения к делу, представляющему малейшую щекотливость.
Вернувшись домой, застаю у жены Владимира Александровича.
После его отъезда приезжают Победоносцев, получивший новое выражение императорского неблагорасположения в форме статс-секретарского знака, а не следовавшей ему Владимирской ленты[322], и Убри, украшенный Андреевским орденом[323].
Еженедельный семейный обед. В Государственном совете Плеве рассказывает подробности назначения нового товарища министра внутренних дел.
На другой день после того, как Государь объявил великому князю Михаилу Николаевичу о назначении Плеве государственным секретарем, был у Государя доклад министра внутренних дел Дурново, который просил о назначении к себе в товарищи Шидловского. Так как Государь отказал великому князю в назначении Шидловского[324] государственным секретарем под предлогом мнимой слабости его здоровья (повод этот был выставлен Шидловским при отказе от обязанностей товарища к Витте), то Государь опасался, что назначение Шидловского может обидеть великого князя, и поручил Дурново объясниться с ним. Дурново почитал дело решенным, не возвращался более к этому вопросу, собираясь поднести к подписанию указ к новому году. Между тем пред следующим докладом он получил записку Государя с приказанием не привозить указа о Шидловском и затем получил от Государя словесное приказание о назначении товарищем Сипягина.
Сипягин – недурной и неглупый человек, с весьма мягкими внешними формами. Его карьеру сделало сначала родство с графом Толстым, а потом особенное благоволение московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича.
24 января. Понедельник. Заседание общего собрания. Дела пустейшие, но одно из них возбуждает оживленные прения. Посол Нелидов написал министру народного просвещения Делянову о необходимости учредить в Константинополе археологический институт. По побуждениям личного тщеславия ничтожный Филиппов упросил Витте пожертвовать на это ежегодно 12 тысяч золотых рублей. В заседании граф Игнатьев в качестве бывшего посла в Константинополе стал доказывать, что в подобном деле Россия должна явиться на Восток в сиянии могущества, то есть с большими средствами, или не соваться вовсе и не компрометировать своего престижа. Между тем больших денег на это тратить нельзя, а если бы и было возможно, то ни Турция, ни Европа не поверят, что мы тратим деньги в Турции на ученые цели, заподозрят тайные политические цели и начнут создавать нам преграды и затруднения, коих у нас и без того довольно.
Товарищ министра иностранных дел Шишкин, вполне соглашавшийся с Деляновым при рассмотрении дела в департаменте, заявил, что согласен с Игнатьевым, и дело убито под видом возвращения в департамент для нового рассмотрения[325].
После заседания беру в сторону Ванновского и передаю ему заявление, сделанное мне в Берлине Шуваловым, о сильном его желании получить пост варшавского генерал-губернатора. Ванновский отвечает, что Шувалов, по его мнению, единственный кандидат, но что Государь не хочет его назначить, потому что в нем польская кровь, так как его мать была полячка!..
Из двух других кандидатов: Имеретинский никогда не примет этих обязанностей, а Обручев – теоретик и больше на месте в Петербурге.
25 января. Вторник. В 11 часов у великого князя Владимира Александровича. Являюсь в ленте по случаю назначения членом академии[326]и предстоящего рассмотрения способов введения в действие нового ее устава. Забавно то, что я около 30 лет состою почетным членом академии, а теперь по случаю нового составления устава графом Толстым [327], назначившим себя вице-президентом, получаю бумагу о том, что я чрез 30 лет снова утвержден почетным членом академии[328]; забавно то, что устав написан Толстым с двумя-тремя подобранными им послушниками, а теперь созывают графа Строганова, Паскевича, меня и других для определения средств ко введению устава. Я отказываюсь ехать, но великий князь Владимир Александрович убедительно меня просит, и я обещаю исполнить эту нелестную для меня церемонию. Дело в том, что Толстому, весьма неприятно поступившему в отношении моего зятя Бобринского, которому он сломал шею, несмотря на то, что был всецело обязан своим назначением, Толстому весьма дорого мое присутствие. В одной роли со мной нахожу толпу тридцати неизвестных мне художников, а из известных мне лиц Строганова, Григоровича, Боткина и Жуковского.
Великий князь убеждает приехать еще и завтра в академию для заседания.
26 января[329]. Среда. В 2 часа заседание в Академии художеств. Толстой с юношеской развязностью, скажу, нахальством выскочки, читает речь, долженствующую исходить от великого князя, в которой говорится присутствующим, чего от них ожидает Толстой, чего до сих пор не делало правительство в отношении академии, которая должна захватить в свои руки все, имеющее в России какой-нибудь художественный оттенок, и т. п.
В заключение Толстой приказывает присутствующим возвратиться в академию чрез два дня для избрания совета и объявляет свою волю, чтобы выставки продолжались на будущее время, как было прежде. После этого все разъезжаются по домам, а я невольно вспоминаю пьесу, виденную в Париже и носившую заглавие: «Madame sans gêne[330] Сегодняшнее академическое представление можно бы назвать «Monsieur vans gêne[331]».
27 января. Четверг. Охота на лисиц в Коломягах. В одном загоне выбежало три лисицы.
28 января. Пятница. Заезжает Воронцов. Передаю ему виденные мной во Франции результаты электролизации меди. Он соглашается с тем, что устройство такого завода могло бы принести большую пользу для производительности Алтайского округа. Бедный Воронцов не может оправиться после смерти сына[332].
В 3 часа еду с графом Монтебелло посмотреть, насколько подвинулось сооружение музея моего Рисовального училища[333] за время моего отсутствия. Особенно удачны ватиканские Рафаелевы ложи, воспроизведенные нашими окончившими курс учениками.
29 января. Суббота. Заезжает граф Протасов-Бахметев и рассказывает историю, которую я уже слышал, которая сама по себе не имеет важности, но подробности коей столь живо характеризуют теперешний правительственный режим, что я решаюсь записать их целиком.
В Чернигове недавно был назначен губернатором Веселкин, человек во всех отношениях порядочный. С первых шагов своего управления он наткнулся на трудности вполне личного свойства.
Предместник его Анастасьев был прямо из губернаторов назначен членом Государственного совета. Уже во время службы в Польше на низших полицейских должностях Анастасьев был уличен в сребролюбии и любостяжании[334]. Оржевский, бывший в то время в Варшаве начальником жандармского управления[335], передавал мне в подробности обстоятельства, обнаружившие виновность Анастасьева. Тем не менее вследствие искательств Трепова, коего считали отцом Анастасьева, последний попал в вице-губернаторы, а потом в губернаторы сначала в отдаленную Пермскую губернию, а затем и в Чернигов. Здесь на его счастье оказался в числе помещиков И. Н. Дурново, который пожелал вырубить в своем имении лес наперекор постановлению лесоохранительного комитета. Анастасьев выхлопотал ему свидетельство о том, будто бы лес подточен червем, а одновременно приискал еврея Эпштейна, который за несоразмерную с ценностью леса продажную цену приобрел и лес, и покровительство министра внутренних дел. За этот доблестный поступок Анастасьев, выставляемый грязным Мещерским как образец царского служителя, был назначен членом Государственного совета. Уехав в Петербург, Анастасьев продолжал оттуда влиять на черниговскую публику и в особенности на своих креатур, а во главе их графа Милорадовича, губернского предводителя, с женой коего Анастасьев находился в связи.
Веселкину, одушевленному наилучшими намерениями, пришлось постоянно встречаться с мерзостями и восстановить против себя крупную кучку, собранную Анастасьевым с Милорадовичем во главе.
Во время болезни Веселкина произошло заседание губернского присутствия под председательством вице-губернатора де Карьера. Пришедший на заседание Милорадович стал громко бранить губернатора, прокурор составил об этом протокол, который и был подписан всеми четырнадцатью участвовавшими в заседании лицами. Милорадович поехал в Петербург жаловаться министру внутренних дел, который вызвал Веселкина и объявил ему, что он будет переведен в Херсон. Лишенный средств к независимому от казенного жалованья существованию, Веселкин должен был принять это перемещение, но так как Дурново поставил ему условием, чтобы он всем заявлял, что такое перемещение делается в интересах здоровья жены его, Веселкина, то последний, чтобы избегнуть необходимости лгать, начиная с императора, отказался от обычного высочайшего по случаю назначения приема.
Вице-губернатор де Карьер, получив от Дурново выговор за то, что допустил составление протокола, перешел со службы в Министерство внутренних дел.
310
О. Бисмарк занимал пост германского канцлера почти двадцать лет; все это время он играл ведущую роль в правительстве. Ситуация изменилась вскоре после вступления на престол императора Вильгельма II в 1888 г. Конфликт между двумя лидерами привел к отставке канцлера в марте 1890 г. (Оба участника событий рассказали об этом в своих мемуарах. См.: Бисмарк О. Мысли и воспоминания. Т. 3. М., 1941. С. 69–87; Вильгельм II. Мемуары. События и люди. 1878–1918. М., 1923. С. 17–19). Тем не менее до самой смерти Бисмарк оставался важной политической фигурой, и, несмотря на то, что находился в отставке, имел определенное влияние. Он регулярно выступал в прессе, критикуя правительство и его мероприятия. Вследствие этого Вильгельм неоднократно грозился отправить бывшего канцлера в тюрьму, но вскоре был вынужден признать, что конфликт с создателем Германской империи негативно сказывался на репутации монарха. Поэтому когда в январе 1894 г. Бисмарк серьезно заболел, император отправил ему письмо с пожеланиями скорейшего выздоровления. Бисмарк, удовлетворенный тем, что Вильгельм сделал первый шаг для урегулирования отношений, в ответном письме выразил желание приехать в Берлин, чтобы лично поблагодарить императора. 13 января Бисмарк торжественно прибыл в столицу Германской империи, где его встречали толпы народа. Эта встреча символизировала примирение между отставным канцлером и императором, что и дало повод Половцову назвать ее «мировой сделкой». Три недели спустя Вильгельм нанес Бисмарку ответный визит в его имение в Фридрихсруэ. Подробнее см.: Lamar Cecil. Prince and Emperor, 1859–1900. Wilhelm II. London, 1989. P. 218–223.
311
Речь идет о переговорах в ходе тарифной войны между Россией и Германией в 1893–1894 гг. См. ниже.
312
Кирасиры – род тяжелой кавалерии; снаряжались кирасой (вид защитного снаряжения, предназначавшийся для предохранения груди и спины воина от холодного и огнестрельного оружия) и каской, имели на вооружении палаш (прямая и длинная тяжелая сабля в широким лезвием), карабин (укороченное и облегченное ружье) и пистолет.
313
Таможенная война 1893–1894 гг. – экономический, требуется определение конфликт между Россией и Германией, сопровождавшийся резкими повышениями таможенных пошлин друг для друга. В июне 1891 г. в России был утвержден протекционистский таможенный тариф. Германия, стремясь закрепить свое влияние в важнейших отраслях российской промышленности, пыталась добиться отмены этого тарифа. Российское правительство предложило организовать конференцию для обсуждения спорных вопросов и поиска компромиссов. Немецкая сторона отказалась. Тогда 20 июля 1893 г. Россия ввела закон о двойном таможенном тарифе, что фактически стало объявлением торговой войны. Согласно тарифу, товары из стран, отказавших России в предоставлении льготных условий для ввоза или транзита российских товаров, облагались пошлинами на 15–20 процентов превышавшими обычные ставки. В ответ пошлины для русского ввоза в Германии возросли на 50 процентов. Россия, в свою очередь, увеличила таможенное обложение германских товаров еще на 100 процентов. После нескольких месяцев изнурительной таможенной войны Россия и Германия пришли в начале 1894 г. к соглашению и 29 января подписали торговый договор сроком на 10 лет. Приложенный к этому договору «конвенционный тариф» 1894 г. частично смягчил систему протекционизма. Пошлины были понижены на 10–33 процентов. Подробнее см.: Иванов К. Е. Русско – германская таможенная война 1893–1894 г.: причины экономической конфронтации // Вестник Санкт-Петербургского университета. Сер. 2. История. Вып. 3. СПб., 2005. С. 48–51. Также о таможенной войне писал в мемуарах Витте: Витте. Т. Г Кн. 1. С. 343–350.
314
Речь идет о сыновьях Половцова – Александре и Петре.
315
Подробнее см. запись от 22 ноября 1893 г.
316
Так в XIX в. называли грипп.
317
В 1844–1845 гг. у императора Николай I ухудшилось здоровье: у него болели и опухали ноги, поэтому он поехал лечиться в Палермо. Александр Николаевич (будущий император Александр II) начал постоянно замещать отца во время его отъездов с 1842 г. (Выскочков Л. В. Император Николай I: Человек и государь. СПб., 2001. С. 688).
318
В то время Александру II было уже 26 лет.
319
Полное Собрание Законов Российской империи – наиболее полный сборник законодательных актов Российской империи, расположенных в хронологическом порядке. Первое издание Полного собрания законов было осуществлено в 1826–1830 гг. под руководством М.М. Сперанского. В него вошли законы за период с 1649 г. по 12 декабря 1825 г. (от Соборного уложения царя Алексея Михайловича до конца царствования Александра I) в 45 томах. Второе издание выпускалось ежегодно в 1830–1884 гг., оно содержит более 60 тысяч законодательных актов с 12 декабря 1825 г. по 28 февраля 1881 г. (55 томов). Третье издание выходило ежегодно до 1916 г. В него вошло более 40 тысяч законодательных актов, изданных с 1 марта 1881 г. до конца 1913 г. (33 тома).
320
Действительно, такая формулировка встречается в законах осени 1844 г. Например, 10 сентября 1844 г. в конце указа «О назначении жалованья двум адъютантам начальника штаба войска Донского» имеется следующая фраза: «Его Императорское Высочество наследник цесаревич с соизволения Государя императора таковое положение Военного совета 10-го в день сего сентября соизволил утвердить» (ПСЗ. Собрание 2. Т. XIX. Отд. 1. 1844. С. 555. № 28210). Эта формулировка периодически встречается вплоть до 27 октября 1844 г. (С. 55 -557,561,565,570, 596, 603, 649, 667, 899).
321
Имеется в виду Павел I.
322
Имеется в виду орден святого Владимира – один из высших орденов Российской империи (по иерархии орденов считался вторым по значению после ордена святого апостола Андрея Первозванного), имел четыре степени и мог жаловаться за военные отличия и за гражданские заслуги. Знак ордена – золотой крест, покрытый красной эмалью, лента – красно-черная, звезда – восьмиугольная с серебряными и золотыми лучами. Кавалеры ордена получали потомственное дворянство.
323
Орден святого апостола Андрея Первозванного – высшая награда Российской империи. На знаке ордена изображался распятый на голубом кресте святой Андрей Первозванный на фоне золотого двуглавого орла, лента – голубого цвета, звезда – серебряная восьмилучевая.
324
Половцов сам активно добивался назначения Н. В. Шидловского на должность государственного секретаря. См.: Половцов. Т. II. С. 473, 476, 489.
325
Тем не менее дело было «убито» не окончательно. В общей сложности оно рассматривалось Государственным советом с 25 октября 1893 по 23 мая 1894 г. (см.: Опись дел архива Государственного совета. Т. II. Дела Государственного совета с 1889 по 1894 гг. Пг., 1914. С. 341. № 478). Дело было пересмотрено, и Совет поддержал мнение Делянова, считая «целесообразным оказать содействие <…> ученым в деле изучения археологических богатств Востока» (Всеподданнейший отчет председателя Государственного совета за сессию 1893–1894 гг. СПб., 1894. С. 20). Александр III утвердил устав и штат института. 26 февраля 1895 г. в Константинополе состоялось торжественное открытие Русского археологического института.
326
Речь идет об Императорской академии художеств.
327
Имеется в виду И. И. Толстой.
328
Половцов был почетным членом Императорской академии художеств с 1869 г.
329
В оригинале указано 25 января, но, очевидно, что это ошибка, так как средой в 1894 году было 26 января.
330
Беспардонная мадам (фр.).
331
Беспардонный месье (фр.).
332
1 апреля 1893 г. скончался сын И. И. Воронцова-Дашкова Роман.
333
Речь идет о Музее прикладного искусства при Центральном училище технического рисования барона Штиглица.
334
Любостяжание – алчность к деньгам, корыстолюбие.
335
Имеется в виду Варшавское губернское жандармское управление Отдельного корпуса жандармов – политической полиции Российской империи.