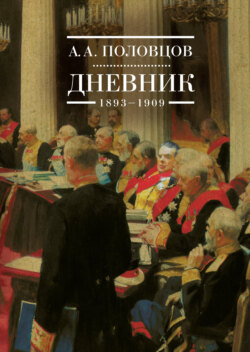Читать книгу Дневник. 1893–1909 - А.А. Половцов, А. А. Половцов - Страница 7
1893
Ноябрь
Оглавление14 ноября. Обычный прием в Аничковом дворце по случаю дня рождения императрицы[288]. Сегодня в церкви наверху[289], во время коего поздравители собираются в залах. После обедни открываются двери большой гостиной, у которых стоит императрица, а возле нее император. Поодиночке к ней подходят и целуют руку сначала статс-дамы, жены, адъютанты Государя, когда он был наследником, гофмейстерины и фрейлины великих княгинь, потом члены Государственного совета, первые чины двора, государева свита, офицеры Кавалергардского[290], Гатчинского Кирасирского[291] полков и Гвардейского экипажа[292], в коих императрица состоит шефом[293]; после поздравления завтрак за круглыми столами при оглушительной музыке придворного оркестра; после завтрака прием (cercle[294]) в смежном зале, причем, Их Величества обходят присутствующих и расточают (не слишком) любезные присутствующим слова. Все оканчивается около 2-х часов.
22 ноября. Понедельник. Заслуживающее остаться памятным заседание общего собрания Государственного совета.
Слушается дело[295] по представлению министра внутренних дел о признании неотчуждаемой крестьянской надельной земли[296]. Представление это сделано было первоначально графом Толстым[297], но покуда я был государственным секретарем, я не давал хода этому представлению, находя в нем выражение идей современного государственного социализма. Дурново по глупости своей не понял этой стороны дела и, надеясь понравиться, продолжая начинания Толстого, внес это дело снова на рассмотрение Совета. В соединенных департаментах[298] признали единогласно необходимым учредить комиссию, которая рассмотрела бы многочисленные законодательные исправления, необходимые по отношению к крестьянскому быту, но вместе с тем единогласно признали невозможным и разорительным для населения допустить отчуждение крестьянских земель исключительно в пользу односельчан. Вместо того предложено установить, что отчуждение крестьянской земли может быть производимо в пользу лиц крестьянского сословия вообще. По этому вопросу произошло разногласие: многие, в том числе и я, доказывали, что таким образом будет запрещено покупать крестьянскую надельную землю дворянам и потомственным почетным гражданам, что всякий мещанин, всякий купец сохранят право покупки крестьянской земли. Делаясь по преимуществу теми кулаками, коих законодательство хочет избегнуть. Дурново и его союзники, или, скорее, потакатели, от сего потакания великие блага ожидающи, упорно и без всяких объяснений стояли на том, чтобы представление министра было утверждено. Точно так же произошло разногласие о праве крестьян закладывать свои земли, и в особенности сильно спорили о предложении министра внутренних дел уничтожить 165 статью[299] крестьянского положения[300], по которой с 1861 года разрешается крестьянам получать в собственность свой надельный участок по внесении причитающейся на участок этот выкупной суммы[301].
В общем собрании заседание началось[302] с того, что министр внутренних дел высказал несколько общих мест, как опасно обезземеление крестьян и распространение у нас земельного пролетариата. Потом министр финансов Витте, человек очень умный, но лишенный и первоначальных, и всяких государственных сведений, с невероятным нахальством отстаивал во что бы то ни стало мнение Дурново, потому что считает его сильным у Государя. В речи своей Витте говорил, что понятия о праве собственности, находящейся в Своде законов, составляют лишь остаток устаревших учебников римского права; что право собственности одно для частных лиц, а другое для государства в отношении частных лиц, что земля может быть отдана во владение, как это существует в казацком войске[303] и т. п.
По соглашению между членами меньшинства прежде всех должен был говорить Бунге, написавший прекрасную по этому делу записку, но он захворал, и с нашей стороны огонь открыл генерал Рооп, с большой энергией настаивавший на том, что подобными мерами подрывается доверие народа к правительству, к словам государева при освобождении крестьян манифеста.
После Роопа говорил я по общему вопросу о неотчуждаемости, речь моя была следующего содержания:
«Ваше Императорское Высочество[304]. Испрашивая разрешение представить соображения относительно подлежащего рассмотрению разномыслия касательно предлагаемой министром внутренних дел меры – установления неотчуждаемости крестьянской земли, – я прежде всего полагаю необходимым выяснить то значение, которое должно быть за этим мероприятием признано.
Есть ли это окончательный закон, изменяющий строй экономической и хозяйственной жизни крестьянского населения?
Или это временная мера впредь до устранения той обильной неурядицы, которая накопилась в крестьянской среде в продолжение тридцати трех лет, протекших со дня освобождения?
Или, наконец, не есть ли это провозглашение принципа для дальнейшей реформы, для направления ее в ту или другую сторону.
Последнего предположения я бы не сделал, если бы не читал на двенадцатой странице журнала комиссии, труды коей легли в основу рассматриваемого представления, что при настоящем положении вопроса неотчуждаемость может быть признана лишь как принцип, долженствующий служить исходной точкой предстоящих по этому предмету законодательных работ.
Такой взгляд, конечно, имеет значение, но так как я думаю, что задача законодательства заключается в том, чтобы установлять правила, а провозглашение принципов входит в область науки и литературы, то я и счел нужным выяснить могущее возникнуть по сему предмету недоразумение, чтобы затем, не возвращаясь более ни к каким принципам, остановить внимание собрания на проектируемом законодательном мероприятии.
Приступая к обсуждению того сомнения, временное ли сегодня издается мероприятие или утверждается окончательный закон, я нахожу основания этому сомнению в том, что министр внутренних дел в представлении своем 22 февраля 1891 года полагал нужным: а) впредь до признаваемого им необходимым пересмотра приостановить действие некоторых статей положения и б) подчинить отчуждение крестьянских земель некоторым временным правилам.
Очевидно, что министр внутренних дел предполагал установить лишь временный порядок, между тем как во мнении большинства членов категорически говорится: в изменение и дополнение подлежащих узаконений постановить следующее правило. Следовательно, без всякого о том в Соединенных департаментах обсуждения то, что предположено было ввести временно, вводится окончательно, навсегда, без всякой оговорки.
Итак, сегодня обсуждается закон, долженствующий получить значение окончательного.
Но как же поступит та комиссия[305], о возникновении коей высказывается единодушное желание? Достаточно ли Государственный совет убежден в непогрешимости этого принципа, чтобы сегодня связать руки комиссии во всем ходе ее работ без ближайшего ознакомления с тем, в чем работы эти будут заключаться?
Но, скажут мне, комиссия может, не стесняясь правилом о неотчуждаемости, постановлять, что захочет. Это значило бы допустить, что аграрное, поземельное законодательство может подлежать частым в форме ли временной меры или постоянного закона изменениям. Такой взгляд представляется мне в известной мере опасным.
Итак, в сегодняшнем заседании рассматривается окончательный закон о неотчуждаемости крестьянской земли без всякого соображения с другими вопросами, касающимися политического и экономического строя крестьянской жизни.
Какие же представляются главные поводы к такой спешности, к такому изолированию, выделению исключительно этого вопроса? 1) то, что площадь владеемой крестьянами земли тает, 2) что подобная мера предотвратит пролетариат.
Не стану повторять цифр, столь красноречиво изложенных в записке председателя Комитета[306], но не могу на основании его же авторитета не прибавить, что, покуда площадь крестьянского землевладения увеличивалась, дворяне из семидесяти семи миллионов десятин владеемой ими земли утратили двадцать два миллиона. Значительное количество этой земли, конечно, перешло к крестьянам. Сколько именно, это мы бы узнали, если бы комиссия, изготовлявшая настоящий проект, не отказалась запросить нотариусов о количестве купленной крестьянами помимо Дворянского банка дворянской земли.
Второе[307] основание настоящего проекта – надежда, что поземельный пролетариат будет предотвращен. Но, не вдаваясь в подробное рассмотрение, насколько такая надежда основательна, довольно остановиться на том, что в 1858 году Россия считала семьдесят пять миллионов жителей, а ныне насчитывает до ста двадцати. Если через тридцать пять лет прирост населения умножится еще на шестьдесят процентов и дойдет до ста девяносто миллионов, а земельная площадь останется все та же, то каким же образом избегнуть того неудобства, что для части населения не хватит материала к земледельческому труду? Да и что такое пролетарий? Человек, не имеющий средств к жизни за недостатком поприща, на котором мог бы трудиться. В России нет и еще долго не будет поприща, которое не нуждалось бы в тружениках. Дело в том, чтобы люди приучались думать, что труд есть закон жизни и что жить надо своим, а не чужим достоянием.
Господин министр внутренних дел заявил, что вопрос о неотчуждаемости имеет важность потому, что число бывших помещичьих крестьян увеличилось с 1861 года по настоящее время с семнадцати до двадцати трех миллионов.
Ваше Императорское Высочество, да не выйдут слова сии за двери этого собрания, потому что смысл их, хотя и в другой форме, повторяется повсюду крестьянским населением. Мне не раз доводилось слышать в деревне, что в 1861 году у отца был один надел, а теперь «народилось четыре сына, так и земли надо дать вчетверо»[308]. На вопрос же мой, откуда взять землю, ответ был всегда одинаков: «Коли царь прикажет, так земля будет».
Не стану повторять всех остальных доводов, изложенных в мнении меньшинства и касающихся основной мысли проекта, перейду к тексту окончательного заключения, который по содержанию своему представляется совершенно иным, чем первоначальные министра внутренних дел предположения.
Признаюсь, я очень сочувственно отношусь к мысли, служившей точкой отправления первоначального проекта. В чем заключалась эта
мысль? В том, чтобы по возможности сохранить на землях живущее на них земледельческое население. С землевладением связаны многие гораздо более возвышенные, чем съестные только, интересы. Угол земли, на котором человек родился, остается навсегда дорог ему, особенно когда к этому присоединяются воспоминания ранней молодости, впечатления возмужалого труда, уважения к мудрым заветам прародителей; все это сливается в одну гармоническую ноту любви к родной земле – первому основанию любви к Отечеству, той любви, которой сильна Россия, той любви, которая выручала ее в годины великих бедствий.
К сожалению, первоначальный проект министра внутренних дел признан единогласно угрожающим разорением крестьянству, а где разорение и нищета, Ваше Высочество, там нередко умолкают лучшие человеческие чувства.
И вот, первоначальный проект совершенно изменился. За невозможностью сохранить землю исключительно для тех, кто на ней живет ныне, решено ограничить право отчуждения исключительно лицами крестьянского сословия; но ведь к крестьянству могут приписываться и мещане, и купцы, следовательно, проектируемый закон в теперешнем его виде не есть более закон о неотчуждаемости, а лишь закон о воспрещении дворянам и потомственным гражданам покупать крестьянские земли. Появится мещанин из какого-нибудь отдаленного городишка, крестьянину говорят: ты можешь продать ему землю; придет купец, нажившийся в соседнем торговом центре, – то же самое; но пожелает помещик в видах улучшения хозяйства устройства какого-нибудь завода, дающего заработок населению, приобрести клочок земли, крестьянин должен отказать помещику в продаже: помещик исключительно угрожающий разорением крестьянину человек. Помещик отдал за дешевую цену свою землю при освобождении крестьян, помещик в качестве посредника устраивал крестьянскую жизнь на первых порах после освобождения, помещик в обязанности земского начальника, уездного предводителя продолжает служить прежде всего на пользу крестьян. Все равно, крестьянин, ты его одного опасайся!
Не проведет ли такой закон между двумя сословиями борозду недоверия, которая может превратиться в ров враждебности?
Независимо от общих этих сомнений самая редакция проектированного правила возбуждает много вопросов. Распространяется ли правило это на участки, выделенные и приобретенные в полную собственность по статье 165? Запрещается ли участки, о которых говорится в проекте, продавать только в целом их составе или даже по частям?
Наконец, указывают на необходимость поставить выкуп надельной земли в зависимости от согласия общества. Но в какой форме согласие это должно выражаться? Об этом в проекте не упоминается. Кроме того, остается неизвестным, в каких отношениях к общине будут состоять пришлые члены – покупщики надельных участков, какие им предоставляются права и какие на них налагаются обязанности? Не разъясняя этих вопросов, обсуждаемый законопроект производит впечатление чего-то отрывочного, неопределенного. В зависимости от этого он, в случае его утверждения, неминуемо должен повести к недоразумениям, всегда нежелательным в среде аграрных вопросов.
В виду всех этих соображений я полагал бы не установлять ныне никаких временных мер по обсуждаемому вопросу, а представить разрешение его проектируемой комиссии по пересмотру крестьянского законодательства».
Дурново, имея в кармане высочайшее утверждение своего мнения, не счел нужным отвечать мне единое слово. За него говорил вроде наемного адвоката Витте. Он сказал, что я напрасно опасаюсь за будущность дворянства, что он, Витте, ручается, что от этого нового закона дворянство никаких потерь не понесет. Что, впрочем, министры, отстаивающие проект, нисколько не противники дворянства, а готовы немедленно вслед за тем написать закон для улучшения быта дворянства.
На это я возражал, что, несомненно, новый закон ничего не изменит, потому что как со времени освобождения крестьяне продолжают покупать землю и увеличивать площадь своего землевладения, так дворяне утрачивают свои земельные владения, и это двойное движение увеличения и уменьшения будет, конечно, продолжаться и после нового закона; но что министр финансов не совсем прав, останавливаясь исключительно на материальных выгодах или невыгодах дворянства; для дворянского сословия существуют еще вопросы сословного достоинства, кои едва ли возможно игнорировать.
После меня говорил Дервиз о праве залога надельных земель, говорил очень хорошо, но исключительно с юридической точки зрения, почти не останавливаясь на экономической стороне вопроса, на необходимости существования кредита для производительной земледельческой деятельности.
В заключение Мансуров говорил против уничтожения 165 статьи, то есть права выкупа наделов отдельными членами общества. Мансуров говорил против обыкновения весьма хорошо, но три раза упомянул о том, что предложение Витте заставлять платить отдельных выкупающих наделы крестьян всю сумму выкупа, не принимая во внимание произведенных с 1861 года взносов, предложением «государственно-бесчестным», что весьма обидело господ Витте и Дурново, разумеется, без всяких дальнейших последствий[309].
288
Речь идет об императрице Марии Федоровне.
289
В верхнем этаже северного бокового флигеля Аничкова дворца находилась домовая церковь во имя святого благоверного князя Александра Невского, сооруженная в 1817–1818 гг. во время перестройки интерьеров здания под руководством архитектора К. И. Росси.
290
Кавалергардский полк (гвардейский кирасирский полк) был сформирован в Петербурге в 1800 г. из Корпуса кавалергардов, существовавшего с перерывами с 1724 по 1797 гг. Участвовал в войнах с Францией 1805, 1806–1807 и 1812–1814 гг., в подавлении восстания в Польше 1830–1831 гг. Кавалергардский полк считался одним из самых привилегированных в гвардии, являлся непременным участником всех торжественных церемоний при дворе и в столице. Его офицеры были, как правило, выходцами из богатых и знатных дворянских семей. Служба в кавалергардском полку зачастую создавала благоприятные предпосылки для успешной карьеры по военной или гражданской части. Императрица Мария Федоровна состояла шефом этого полка с 1881 г.
291
Кирасирский полк (полное название – лейб-гвардии Кирасирский полк Ее Величества государыни императрицы Марии Федоровны) был сформирован как драгунский (конный, способный действовать и в пешем строю) полк. В 1733 г. переименован в лейб-кирасирский (кирасиры – тяжелая кавалерия), шефом полка стала сама императрица Анна Иоанновна. Полк принимал участие в швейцарской кампании 1799 г., в Отечественной войне 1812 г., в подавлении польского восстания 1830–1831 гг. и венгерских событиях 1849 г. Будущая императрица Мария Федоровна стала шефом полка в 1880 г.
292
Гвардейский экипаж – военно-морское формирование в составе Русской Императорской гвардии. Учрежден в 1810 г. Участвовал в Отечественной войне 1812 г., Заграничных походах 1813–1814 гг. Гвардейцы действовали при осаде Варны в 1828 г., подавляли восстания в Польше в 1830–1831 и 1863 гг., были в венгерском походе 1849 г., отличились при обороне Кронштадта в Крымскую войну и др. Мария Федоровна была назначена шефом Гвардейского экипажа в июле 1892 г.
293
После 1815 г. шеф полка – почетное звание, которое, как правило, получали члены императорской фамилии, иностранные монархи и принцы и т. д.
294
Круг (фр.).
295
Здесь рассказывается об обсуждении в Государственном совете представления министра внутренних дел И.Н. Дурново о мерах по предупреждению отчуждения крестьянских наделов. Дело слушалось с 22 ноября по 23 декабря 1893 г. Подробнее см.: Всеподданнейший отчет председателя Государственного совета за сессию 1893–1894. С. 27–38.
296
Система надельного землевладения образовалась после крестьянской реформы 1861 г. Она существовало в двух формах – общинного (земля находилась в собственности общины) и подворного землепользования (в собственности отдельных дворов, то есть принадлежала отдельной семье и распределялась между ее членами). Ни общинное, ни подворное землевладения не являлись частной собственностью. Каждый крестьянин должен был быть членом общины или двора, в этом случае он получал земельный надел (участок земли) в пользование. Крестьяне не имели права продавать, закладывать, дарить надельную землю. Землей, находившейся в общинном пользовании, распоряжалась община, которая регулировала ее распределение, определяла порядок пользования общими угодьями – выгонами, пастбищами, устанавливала севообороты. На большей части территории Российской империи надельное землевладение существовало в виде общинной собственности, в Литве, Правобережной Украине и Молдавии – подворной.
297
Имеется в виду министр внутренних дел Д. А. Толстой.
298
Дело обсуждалось в департаментах в предыдущую сессию 1892–1893 гг.
299
Речь идет о 165 статье «Положения о выкупе крестьянами, вышедшими из крепостной повинности, их усадебной оседлости и о содействии правительства к приобретению сими крестьянами в собственность полевых угодий», которое являлось частью «Положений» об освобождении крестьян от крепостной зависимости. Указанное положение определяло порядок выкупа крестьянами земли у помещиков и т. д. Упомянутая Половцовым статья 165, или, точнее, вторая ее часть, разрешала члену крестьянской общины (статья касалась только бывших помещичьих крестьян) получать свой надел в собственность по внесению выкупной суммы в уездное казначейство. См.: ПСЗ. Собр. II. Т. 36. Отдел 1. 1861. СПб., 1863. С. 174–202. № 36659.
300
Освобождение крестьян от крепостной зависимости было провозглашено Манифестом 19 февраля 1861 г. «О всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей». Практические условия освобождения крестьян были определены в семнадцати актах – «Положениях» о крестьянах. Основной акт – «Общее положение о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости» – содержал главные условия крестьянской реформы. Крестьяне получали личную свободу и право свободно распоряжаться своим имуществом, но при этом помещики сохраняли собственность на все принадлежавшие им земли, однако обязаны были предоставить в пользование крестьянам «усадеб оседлость» и полевой надел. За пользование надельной землей крестьяне должны были отбывать барщину или платить оброк и не имели права отказа от земли в течение девяти лет. Размеры полевого надела и повинностей должны были фиксироваться в уставных грамотах, которые составлялись помещиками на каждое имение и проверялись мировыми посредниками. Крестьянам предоставлялось право выкупа усадьбы и по соглашению с помещиком – полевого надела, до осуществления этого они именовались временнообязанными крестьянами. Крестьянин обязан был немедленно уплатить помещику двадцать процентов выкупной суммы, а остальные восемьдесят вносило государство. Крестьяне должны были погашать ее в течение сорока девяти лет ежегодно выкупными платежами. Также манифестом определялась структура, права и обязанности органов крестьянского общественного управления (сельского и волостного) суда.
301
Выкупная сумма или выкупные платежи – деньги, которые бывшие крепостные, удельные или государственные крестьяне платили государству по условиям крестьянской реформы 1861 г. Эти деньги выплачивались в рассрочку на 49 лет для погашения ссуды, предоставленной государством бывшим владельцам в качестве выкупа за надельную землю. Фактически включали и выкуп за личность крестьянина, так как сумма выкупных платежей определялась исходя не из рыночной цены на землю, а из дохода помещика с имения. Ежегодно выплачивались 6 процентов от этой суммы.
302
Здесь и далее в записи за 22 ноября Половцов несколько сумбурно, но достаточно точно изложил основные вопросы, которые были представлены на рассмотрение Государственного совета. Члены Совета должны были высказать свое мнение относительно следующих мер:
– о продаже надельной земли целыми сельскими обществами;
– об ограничении круга лиц, которым разрешено приобретать участки надельной земли, принадлежащие отдельным крестьянам;
– о запрещении залога надельных земель;
– об отмене второй части статьи 165 «Положения о выкупе».
Относительно первого вопроса разногласий не возникло, о нем Половцов не упомянул. Члены Государственного совета предложили допустить продажу надельной земли сельскими обществами при соблюдении двух условий. Первое: решение о продаже принималось на сельском сходе с большинством не менее двух третей голосов. Второе: решение сельского схода должно было утверждаться губернским или губернским по крестьянским делам присутствием (для участков земли не дороже 500 рублей), кроме того, предполагалось получить разрешение Министерства внутренних дел при согласовании вопроса с министрами финансов, земледелия и государственных имуществ (для более дорогих участков).
Второй вопрос вызвал серьезные прения в Совете, которые красочно описал автор дневника. Представители меньшинства (девятнадцать членов Совета, в том числе Половцов) полагали, что изменять Положение от 19 февраля 1861 г. не было необходимости, то есть крестьяне должны сами решать, кому продавать землю. Запрещение продавать участки лицам, не принадлежавшим к одному и тому же обществу, ограничивало крестьянскую свободу. Кроме того, по мнению меньшинства, данная мера должна была вызвать понижение спроса на наделы, тогда как предложение оставалось бы неизменным, что вызвало бы ухудшение положения крестьянства. Обезземеливание сельского населения могло стать явлением общим, так как многие продавали участки для приобретения земли в других районах, в частности, на окраинах государства, что способствовало бы заселению отдаленных областей Российской империи. К тому же крестьянство начало бы более активно переориентироваться на другие занятия (в частности, на ремесла и промыслы). В любом случае ограничение свободы распоряжения землей не могло предотвратить обезземеливание крестьянства (оно неизбежно из-за роста населения).
По мнению большинства (тридцать членов Совета, в том числе председатель Государственного совета великий князь Михаил Николаевич), данное мероприятие не составляло нарушения установленного в 1861 г., напротив, ограничение продажи земли должно было бы способствовать сохранению земли в руках крестьянства, что отвечало бы замыслам составителей Положения. В России представление о земле как о товаре преждевременно, поскольку малообразованное неопытное крестьянское население не было готово к ведению рыночных отношений и могло легко стать жертвой людей, быстрее адаптировавшихся к новым реалиям.
Главный вред, по мнению большинства, – это скупка земли лицами, не принадлежавшими к сельскому населению, так как их цели не совпадали с нуждами обществ. Поэтому следовало запретить приобретение наделов лицами некрестьянского сословия. В то же время ограничение возможных покупателей представителями одного и того же общества нежелательно. Наиболее целесообразным считалось предоставить право покупки земли лицам крестьянского сословия, принадлежавшим к какому-нибудь сельскому обществу, либо потенциальным покупателям, приписавшимся к тому обществу, в котором они планировали приобрести участок. Против последнего особенно горячо выступал Половцов, как видно из его речи, которая приведена в тексте дневника ниже. Он считал, что разрешение покупать землю лицам, которые приписывались к обществам, было бы равнозначно запрещению дворянству и потомственным гражданам приобретать крестьянские наделы. Половцов как защитник интересов землевладельческого дворянства старался этого не допустить.
Третий вопрос также стал причиной разногласий. Тринадцать членов Совета высказались за то, чтобы залог наделов со стороны сельских обществ допускался не иначе, как с разрешения местного губернского присутствия или губернского по крестьянским делам присутствия. Председатель и тридцать шесть членов Совета выступили за запрещение отдавать надельные земли в залог на основании того, что результатом подобных сделок повсеместно становилась бы принудительная продажа участка, так как крестьянин оказывался бы не в состоянии выплатить залоговые обязательства. Таким образом, опять же возникала опасность массового обезземеливания сельского населения, которое следовало предотвратить.
По вопросу об отмене второй части 165 статьи члены Совета также не пришли к единогласному решению. Меньшинство в составе двадцати одного члена выступило за сохранение этого пункта. Они доказывали, что установленное этой статьей право досрочного выкупа надельных участков из общинного владения представлялось весьма существенным для крестьян преимуществом, утрата которого была бы для них едва ли не более заметной, чем лишение возможности отчуждать участки и закладывать их. Выкуп этот, по мнению меньшинства, представлял единственный способ освободиться от зависимости общества для более трудолюбивых и деятельных крестьян и способствовал бы улучшению ситуации в деревне.
Председатель и двадцать семь членов считали, что представляемое 165 статьей право отдельным домохозяевам выкупать досрочно участки надельной общественной земли без согласия общества противоречило основным началам крестьянского землепользования. Поэтому они предлагали изменить вторую половину статьи 165 таким образом, чтобы производство досрочных выкупов было поставлено в зависимость от согласия общества. Кроме того, последнему следовало предоставить право определять и размер выкупаемого участка, и его стоимость.
Против этого положения, как видно далее по тексту, решительно выступил Половцов. В частности, он обратил внимание на то, что в проекте не говорилось, в какой форме должно выражаться согласие общества. Как опытный юрист Половцов критиковал не только содержание проекта, но и его изложение. Он заострял внимание на недоработках проекта, чтобы не допустить его утверждения, призывая возложить рассмотрение большинства вопросов на комиссию, которая должна была заниматься усовершенствованием и дополнением Положения 1861 г. Но министр внутренних дел, как отметил автор дневника, «имея в кармане высочайшее утверждение своего мнения», даже не счел своим долгом отвечать на пламенную речь Половцова. Старания оратора были напрасны: 14 декабря 1893 г. Александр III утвердил мнение большинства Государственного совета. Подробнее см.: Всеподданнейший отчет председателя Государственного совета за сессию 1893–1894 гг. С. 27–38.
303
Система землевладения в казачьих областях определялась Положением от 21 апреля 1869 г. о поземельном устройстве в казачьих войсках. Положение закрепляло общинное владение станичными (юртовыми) землями, из которых производилось наделение казаков «паем» в 30 десятин на казака (на практике наделы составляли в среднем от 9 до 23 десятин). Остальные земли составляли войсковой запас, предназначавшийся главным образом для пополнения станичных участков по мере роста казачьего населения. Казачьи офицеры и чиновники наделялись землями в полную собственность взамен пенсий; размер их наделов в различных войсках отличался, а в каждом войске был разным для генералов, штаб-офицеров и обер-офицеров.
304
Половцов обращался к великому князю Михаилу Николаевичу.
305
Государственный совет пришел к единогласному мнению о том, что Положение о крестьянах 1861 г. должно быть пересмотрено (Всеподданнейший отчет председателя Государственного совета за сессию 1893–1894 гг. С. 38). Эту миссию решили возложить на особую комиссию. Постановление Совета так и не было исполнено, поскольку, как утверждал Половцов, министр внутренних дел Дурново убедил Александра III, что «никакой комиссии не надо» и что «все необходимое будет сделано самим министром внутренних дел» (Подробнее см.: дневник Половцова за 6 августа 1898 г.). Тем не менее Министерство внутренних дел не занималось этим вопросом. По мнению М.С. Симоновой, внимание императора на неустроенность крестьянского положения обратил в 1900 г. во всеподданнейшем отчете генерал-губернатор М. И. Драгомиров. В январе того же года его доклад был заслушан в Комитете министров (Симонова. С. 10). Он предлагал срочно пересмотреть законы, определявшие личные и имущественные права крестьян и строй их общественного управления. Эти предложения были одобрены (См.:Памяти В. К. Плеве. СПб., 1904. С. 12–13). Последовал запрос Николая II Министерству внутренних дел о состоянии работы по пересмотру крестьянского законодательства. 14 февраля 1901 г. министр внутренних дел Д. С. Сипягин представил императору доклад, в котором содержалась история разработки вопроса с 1893 г. Оказалось, что Министерство внутренних дел сумело провести только сбор документов по данной проблеме. В итоге 22 января 1902 г. было учреждено Совещание о нуждах сельскохозяйственной промышленности под председательством министра финансов Витте из министров земледелия и государственных имуществ, внутренних дел и других лиц по назначению императора (Симонова. С. 15).
306
Имеется в виду записка Н. X. Бунге, упомянутая выше.
307
В данном случае в качестве «первого» Половцов рассматривает вопрос о сокращении площади крестьянской земли.
308
Такой же аргумент автор дневника привел в письме к Николаю II, сопровождающем биографии для словаря Половцова. См. запись от 20 июля 1901 г.
309
В итоге 14 декабря 1893 г. был принят закон «О некоторых мерах к предупреждению отчуждения крестьянских земель». В соответствии с этим законом продажа надельных крестьянских земель целыми обществами допускалась только с согласия не менее двух третей домохозяев. Кроме того, сделка должна была утверждаться губернским или губернским по крестьянским делам присутствием. В том случае, если цена участка превышала пятьдесят рублей, то разрешение следовало получить от министра внутренних дел и министра финансов, а если земля приобреталась для горнопромышленных целей – и министра государственных имуществ. Взамен статьи 165 было постановлено, что до уплаты выкупной ссуды выдел отдельных домохозяев и досрочный выкуп ими участков допускался не иначе, как с согласия общества и на условиях, указанных в приговоре соответствующего схода. Крестьянским обществам и отдельным домохозяевам запрещался залог принадлежавшей им надельной земли частным лицам и учреждениям, хотя бы выкупная ссуда по этим землям была погашена. Участки надельной земли, приобретенные отдельными домохозяевами или состоявшие в подворно-наследственном их пользовании, могли быть отчуждаемы посредством дарения, добровольной или принудительной продажи только лицам, приписанным или приписавшимся к сельским обществам. См.: ПСЗ. Собр. III. Т. СПб., 1897. № 10151.