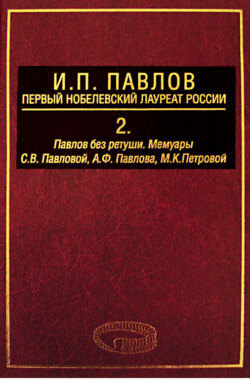Читать книгу И. П. Павлов – первый нобелевский лауреат России. Том 2. Павлов без ретуши - Александр Ноздрачев, А. Д. Ноздрачев, Михаил Пальцев - Страница 32
Серафима Васильевна Павлова
Из воспоминаний
Студенческие годы (1877–1880)
Из писем Ивана Петровича к невесте
ОглавлениеВоскресенье, 18 [января], 8 ч. утра
Не ожидал я вчера твоего письма, моя дорогая, и получил же на радость. Тебе устроили в Рязани тяжелый день. Что это значит? Как это могло быть? Прочитавши твое письмо, страшно озлился на Рязань. Родные, и не могли сделать радость моей Сарке даже день. Я давал слово с ними переписку прервать,[как и] отношения. И верь, моя ненаглядная. Я исполню мое, если они действительно сделали тебе и сказали что-нибудь оскорбительное. Извини, прошу, только в одном случае, если неприятность вышла в неуменье – от специальных провинциальных взглядов на жизнь, на счастье, хотя и постоянно имелось в виду только сказать полезное для будущего нас обоих.
Знай, моя ненаглядная, люблю тебя больше всех и вперед верь – и потому спокойно, без ревности отнесись к следующим строкам. Прямо по получении твоего письма я бросился делать разные предположения, теперь я их не передаю и подожду твоих разъяснений. Почему? Ты легко поймешь сама, моя умная, хорошая! Дело идет об отце, и в этих предположениях, сделанных под влиянием злобы, могло быть так много оскорбительного для него. Ведь я должен бы догадаться, какую и как тебе сделали скверность? Нынче, милая Сара, я удержусь от этого и горячо, душевно целую тебя, что и ты решила переждать минуты впечатления, чтобы быть справедливой при оценке бывшего. А вчера прямо, читая письмо, я был другого мнения: я осердился на тебя, называя это издевательством надо мной – сообщать о своем горе, неприятности, так близкой мне, вдвойне близкой, и не объяснить – в чем она.
А страшило это, Сара, ужасно. Как могли они сделать тебе неприятное? Они считали тебя так близкой, родной. Это верно. Это я видел сам, когда бывал в Рязани, ездил к тебе. Это ясно, вне сомнений, в письмах из Рязани, писанных в ожидании Вашего приезда. Хочется верить, что неприязнь едва ли заметна для них самих, против их давления. Я представлял их! Они ждали четыре дня, собирали комнату, не спали до двух часов, и все только для того, чтобы отсутствием этой торжественности не оскорбить тебя, чтобы оно не истолковано было тобой в сторону невнимательности и холодности. Они не могли допечь тебя своими практическими наставлениями и церемониями без жалости, без деликатности, до слез. Вот она, внешность! Не подумай, что это последнее слово. А еще дальше за этими наставлениями ум и душа. Я знаю ее и верю, хотел бы верить, что их срезала их политическая внешность, – но в душе они не желали сделать или сказать тебе неприятность. Я написал это и боюсь, что тебе покажется, что я защищаю Рязань против тебя, люблю их больше, чем тебя. Нет, Сара, нет. Но они провинившиеся, а я хочу быть осторожным в осуждении их. Обнял бы теперь тебя и целовал, целовал до тех пор, пока ты не сказала, что всех простила и все позабыла.
Твой Ванька.
Суббота, 31 [января], 5 часов дня
Прости, моя дорогая, что пишу плохо. Времени не было написать, а кроме того, очень устал, сейчас и голова побаливает, вероятно, немножко простудился. Вчера с вокзала отправился к Достоевскому. Толкался целый час, едва не задохся. И весь мокрый от поту едва-едва выбрался, ничего не видавши: масса народа. Усталый приехал домой и остальной вечер проговорили с Сережей. Ныне с утра решил не писать, чтобы передать о процессии.
К 11 часам был у квартиры Достоевского. Милая Сара, ничего подобного я еще не видал. Народу собралось видимо-невидимо. Вся процессия на целую версту растянулась. Масса народу, и над головами этого народа бесконечная вереница венков, наверное, около 40–50: от разных учебных заведений, начиная с гимназий и кончая университетом, от разных обществ, от судебных корпораций, присяжных поверенных, судей и т. д., от редакций газет и т. д. Около каждого венка – соответственная корпорация. На венках надпись из цветов: от кого или перечень романов, или букв Достоевского, или обращения вроде: русскому человеку, великому учителю, другу чести и правды и т. д. Золотом обитый гроб все время несли поднятым над головами. Вокруг гроба на 3–4 сажени во все стороны поддерживали руками непрерывные гирлянды цветов. Вдоль всей этой на версту растянувшейся массы переливалось беспрерывное пение: «Святый Боже» пели не только хоры певчих, но и отдельные группы разных студентов, студенток и гимназистов.
Процессия из квартиры по Невскому прошла в Александро-Невскую лавру, где гроб будет стоять до завтра, когда произойдет погребение. Шли целых три часа. Если бы чувствовал все это покойник, остался бы доволен. Его Алеша на последних страницах «Братья Карамазовы» из смерти Ильюшечки сделал высокую нравственную минуту для десятка мальчиков. Сам он своей смертью поднял, возвысил душу всего думающего и чувствующего града Питера. Отдохнувши, напишу много, много.
Горячо целую мою впечатлительную Сару.
Твой Ванька.
Воскресенье, 1 [февраля], 5 час. дня
…Напишу тебе, моя милая, опять только несколько строк. Потому что сил нет писать, так устал. Как встал, сейчас же отправился на похороны Достоевского70.
Ввиду тесноты в церковь пропускали только по билетам, у меня был. В церкви венки, несколько приподнятые, образовали ряды с обеих сторон гроба вдоль всей церкви. Ко вчерашним (которых по газетам было 64) прибавилось много новых. Публика главным образом состояла из молодежи. Были, однако, дамы какие-то и царственные особы. В церкви ректор Духовной академии произнес речь, которая мне не понравилась: не слышал искренности, душевности. После панихиды я, конечно, к могиле не попал. И вдали, в давке слышал только отдельные слова наиболее голосистых ораторов. Все закончилось немножко на русский манер, насильным, нежелательным для хозяев разрыванием венков. Вчера поступил в продажу январский номер «Дневника писателя». Вот и наша с тобой надежда наслаждаться, возбуждаться чтением его. Напишу обо всем и другом; обещаю, вероятно, вечером ныне, когда лучше отдохну.
Крепко обнимаю и целую мою Сарушку.
Твой Ванька.
Вторник, 3 [февраля], 11 часов дня
Не пошел в Общину71, хоть и есть лекция. Не совсем хорошо чувствовал себя, особенно с утра.
Милая моя, дорогая Сарушка! Что-то очень скверно! Тоска, скука какая-то! Безнадежность, неопределенность! Сам не знаю сейчас, какое у меня дело? И за что приняться? Ах, моя хорошая. Очень уж сейчас плохо, а, пожалуй, и всегда! Нарвешься ты на мне крепко, мое сокровище! Ты знаешь меня теперь уж близко, изо дня в день целых 8 месяцев – ну, и что же? Где же дела? Ни черта-то из меня не выйдет, как ничего и не вышло до сих пор. Общее образование? Где оно? Специальное – одна жалость! Пустота, одна пустота бессовестная. Время идет, а на что? Я и не помню, с каких поря не мог назвать хоть одно большое и законченное дело. Жизнь плетется без смысла, без цели, а значит, без энергии, без усилий. Сара, смотри лучше, чтобы после не раскаиваться. У меня надежда только на тебя, что с тобой будет иначе, переделаюсь, заживу. Сейчас ужасно, ужасно плохо! Право не знаю, что и делать? Хоть бы… Хотел, было написать «поплакать», да глупо показалось: и как, мол, облюбовал средства поправлять жизнь.
Вот что, моя милая! Соберу для тебя сейчас, что разбросано в газетах о Достоевском. Ты в Ростове успеешь прочесть только первые известия о смерти. Главным образом пока дают сведения речи.
Из речи Пальма72 на кладбище, товарища по каторге, особенно хорошо это место: «Как теперь вижу минуту нашего прощания в декабре 49 года. Он бодрый, почти веселый и какой-то светлый, верующий, обнял меня и сказал: «До свидания, Пальм. Увидимся непременно. Уже это непременно – увидимся! Четыре года каторги, потом солдатчина, все вздор, пустяки, пройдет; а будущее наше!» Глаза его сверкали, прекрасная, любящая – хотя и не без тонкого юмора – улыбка загорелась на его бледном измученном лице… Прошли многие трудные годы, и в самом деле наступило наше свидание. Ф. М. опять все тот же, бодрый, светлый, верующий – на литературном чтении в пользу учащейся молодежи шепчет мне: «А ведь мы не пропали! Мало нас, а все-таки нет-нет, да и вспомнят стариков… Ведь вот же пригодились, не пропали! Глубоко поучительна эта не умирающая вера в свое душевное дело, которое тихонько, но без перерыва движется, теплится в человеке, помимо всех невзгод. Всего шума, гама и сумятицы внешних, преходящих явлений…»
Майков73, между прочим, сказал следующее (не сказал, но хотел сказать и не успел): «Об нем многое написано и сказано. Но не сказано, кажется, то, что для меня всегда казалось самым великим проявлением его вершин. Это – каким он возвратился из Сибири. Не убитым, не озлобленным, не возгордившимся ссылкой. Нет, примиренным и просветленным. Там он узнал русский народ в его историческом и человеческом образе, и по этому народу, войдя душой в его душу, узнал Христа… А все это, говорил он, – такое благо, за которое немного заплатить каторгой».
Сделаю несколько выписок из Суворина74 о покойном:
«Вторник прошел хорошо, и мысль о смерти была далека. Ему предписали полное спокойствие, которое необходимо в подобных случаях, но по натуре своей он не был способен к покою, и голова постоянно работала. То он ждет смерти, близкой и быстрой, делает распоряжения, беспокоится о судьбе семьи, то живет, мыслит, мечтает о будущих работах, говорит о том, как вырастут дети, как он их воспитает, какая светлая будущность ждет это поколение, к которому они принадлежат, как много может сделать оно при свободе жизни и как будет счастливо, и как много несчастных обратит к счастью и довольству…»
«Достоевский обладал особенным свойством убеждать, когда дело касалось какого-нибудь излюбленного предмета. Что-то ласкающее, просящееся в душу, отворяющее ее всю, звучало в его речах. Так он говорил и в этот раз (за десять дней до смерти в гостях у Суворина). У нас, по его мнению, возможна полная свобода, такая свобода, какой нигде нет, и все это без всяких революций, ограничений, договоров. Полная свобода совести, печати, сходок, и он прибавлял «полная». Суд для печати, разве это свобода печати? Это все-таки ее притеснение. Она с судами пойдет односторонне криво. Пусть говорят все, что хотят. Нам свободы необходимо больше, чем всем другим народам. Потому что у нас работы больше. Нам нужна полная искренность, чтобы ничего не оставлять невысказанным. Конституцию он назвал «Господчиной», и уверял, что так именно называют ее мужики в разных местах России, где ему случалось с ними говорить. Еще на пушкинском празднике он продиктовал мне небольшое стихотворение об этой «Господчине», из которого один стих он поместил в своем дневнике, вышедшем сегодня. Он был такого мнения, что прежде всего надо спросить один народ, не все сословия разом, не представителей от всех сословий, а именно одних крестьян. Когда я ему возразил, что мужики ничего не скажут, что они и формулировать не сумеют своих желаний, он горячо стал говорить, что я ошибаюсь. Во-первых, и мужики могут многое сказать, а во-вторых, мужики, наверное, пошлют от себя в большинстве случаев на это совещание образованных людей. Когда образованные люди будут говорить не за себя, не о своих интересах, а о крестьянском житие-бытие, о потребностях народа – они, правда, будут ограничены, но в этой ограниченности они могут создать широкую программу коренного избавления народа от бедности и невежества. Эту программу, эти мнения и средства, ими предложенные, уж нельзя будет устранить и на общем совещании. Иначе же народные интересы задушатся интересами и защитою интересов других сословий, и народ останется ни при чем. С него станут тянуть еще больше в пользу всяких свобод, образованных и богатых людей, а он останется по-прежнему обделенным».
Думала ли ты, моя дорогая, что наш Достоевский мог быть таким социалистом, радикалом! Да, еще Суворин сообщает, у Достоевского был замысел продолжать «Братьев Карамазовых». Алеша Карамазов должен был явиться героем следующего романа, из которого он хотел создать тип русского социалиста, не тот ходячий тип, который мы знаем, а который вырос вполне на европейских ногах.
«Как Достоевский относился к молодежи – она это сама знает. В последние месяцы он бывал в каком-то восторженном состоянии. Овации страшно подняли его нервы и утомляли его организм. Подносимые венки он считал лучшей наградой! В ноябре или декабре, после одного бала в одном высшем учебном заведении, на который ему прислали почетный билет, он рассказывал мне, как его принимали. Потом мы стали говорить, – продолжал он, – затеяли спор. Они просили, чтобы я им говорил о Христе. Я им стал говорить, и они внимательно слушали. И голос его дрожал при этом воспоминании».
Он любил русского человека до страсти. Любил его таким, каким он есть. Любил многое из его прошлого и верил с детскою непоколебимою верою в будущее. «Кто не верит, тому и жить нельзя», – говаривал он… И вот почему к нему ходили, как на исповедь, ему делали невероятные признания; в силу его слова верили и стар, и млад…
У Маркевича75 в «Московских ведомостях» рассказывается сцена смерти. Выписываю следующее: «Двое детей их, сын и дочь (дочь – старшая, 11 лет) тут же на коленях торопливо, испуганно крестились. Девочка в отчаянном порыве кинулась ко мне, схватила меня за руку: «Молитесь, прошу вас, молитесь за папашу, чтобы, если у него были грехи, бог ему простил», – проговорила она с каким-то поразительным недетским выражением и залилась истерическими слезами.
По отцу и дети, милая Сара! Тут приводятся слова его жены: «Ведь ему жить хотелось еще. Жизнь только начинала улыбаться ему (прорывались у нее слова); он надеялся еще многое сказать… И дышать стали мы легче… И вот… Он мне сегодня сказал: «Весь свой век бился я, и работал, как вол, из-за хлеба насущного; думал, вот, наконец, будет, чем детей на ноги поставить, и умираю, оставляя их нищими…»
В «Московских ведомостях» приводятся слова Достоевского из письма к Каченовскому76 от октября прошлого года. «Я человек весьма нездоровый, с двумя неизлечимыми болезнями, которые меня очень удручают: падучею и катаром дыхательных путей, так что дни мои, сам знаю, сочтены, а между тем беспрерывно должен работать без отдыху».
Все эти выписки сделаны из «Нового времени». Ты, вероятно, уже прочла в Ростове, что из государственной казны назначена двухтысячная пенсия вдове с детьми.
Венков было до 70 с лишком. По «Новому времени» в процессии перенесения тела участвовало до 30 тысяч. Суворин закончил свою статью так: «Ничья вдова, ничьи дети не имели еще такого великого утешения, свою скорбь смягчить таким выражением общественной признательности к близкому им человеку, свою жизнь наполнить воспоминанием о незабвенном дне, великом, хотя он и был днем вечной разлуки».
В согласии с этим твой Сергей, который все это время сидел рядом со мной и почитывал про Достоевского, говорит, что смотрел во время процессии на вдову и не замечал, чтобы ее грусть выделялась из общей. Стало быть, верно, что в ее печали была и большая радость.
Самому Достоевскому, если бы он видел и чувствовал все это, должно было бы быть хорошо! Сколько народу на его могиле приняло решение, дало обет быть лучше, походить на него! Ведь и мы тоже с тобой, милая ты моя Сара!
Горячо целую тебя.
Твой Ванька.
Суббота, утро
Обнимемся получше, Сарушка и почмокаемся! Такс… Теперь за дело! Э-э-э! Сарка? Ты что ж за фантазии разводишь? Что это за знак вопроса с удивлением? Конечно, сделаю (ты знаешь мой настойчивый характер) из моей ветрогонки хорошую семьянинку. Дурка, и это тебе же в пользу! Ясность-то, ясность какая в голове. Путь прямой без закоулок – «Иван Петрович, Иван Петрович». Конечно, Иван Петрович. Это теперь-то позволяю называть и так, и эдак, а как муж – так только «Иван Петрович» и с подобострастием, а не просто легкомысленно. Руки целовать будешь, в глаза смотреть неотступно от глубокой благодарности, что дали чин, порядок, мир твоей стрекозьей душе. Видали мы вас таких-то много! Одно в вас хорошо: страшны на словах, но не на деле! Итак, не воевать. Жди своей судьбы (меня т. е.) со смирением.
Исполнивши с достоинством то, что приказывал долг будущего мужа, теперь чувствую некоторое желание, пока еще можно, несколько понежничать. Ничего, ничего, моя дорогая Сарушка, поцелуемся подольше, покрепче и успокоимся. Ведь знаешь, черт не так страшен, как его малюют. К тому же и все дело – о, Сарочка, кажется мне, взялось в связи с твоим визитом к знакомым. Узнал или нет? Перемена тона слишком резка, чтобы не отнесть ее на счет чего-нибудь определенного. А больше-то всего то, что ты давно уже все же побросала – и смеешься, смеешься без конца! И мои потуги как утешителя были бы и потешны, и не во время. А потому вовсе не утешаю, а говорю о том, что всегда имеет интерес, независимый от той или иной минуты, и о чем собирался, обещался говорить. Ты знаешь уже очень хорошо мой взгляд на дело. И мне, и тебе (и тебе независимо от меня) предстоит переделка, приспособление, что ли, к жизни – и наша задача в этой переделке как можно меньше уступить из мечты молодости. На том ведь стою – и с того не пойду! До завтра, дорогая Сарка.
Твой Ванька
Суббота, 14 [марта], 8 часов утра
Счастлив, моя радость, Сарушка! Экзамен у Грубера прошел благополучно77, сверх всякого вероятия. Успех придал уверенности – и я решил в эти оставшиеся недели до Святой всячески покончить с экзаменским делом. Не верится только, чтобы было возможно отъявиться в Ростов по вашему расписанию. А ужасно бы хотелось: ведь тогда до нашего свидания оставалось бы только 3 недели, просто невероятно, как это было бы скоро. Последние 3–4 дня учился почти насквозь целые сутки; спал только раз и то три-четыре часа. Зато вчера, пришедши вечером с экзамена и пообедавши, прилег в 8–9 часов и продул до сих пор. Стало быть все выровнено. Сейчас чувствую себя прекрасно. Досадно одно, что и теперь не могу тебе писать столько, сколько бы хотел и нужно. Поутру (два часа дня) лекция у медичек. А к ней надо много прочесть, «сообразиться».
Милая, не сердись на то, что все откладываю подробное письмо; верь, что сам хочу больше говорить с тобою, мое сокровище; но ты видишь, дела и неотложные. Нынешний вечер свободный – вот и расквитаюсь с тобой.
А писать надо ужасно много. Когда я вчера думал о твоих письмах и ответе на них, мне стало просто боязно, что я не успею написать так полно, как бы нужно, что я не выложу на бумагу все то, что было в душе. И все мечтал: если бы говорить вместо того, чтобы писать. И потому я сейчас дам ответы только на отдельные вопросы, отдельные заметки твои.
В последнем письме ты отбросила твои желания жить еще в деревне. Я принимаю это перерешение как окончательное и вот почему. Нет сомнения, что состояние, подобное только что пережитому во время наводнения и после наводнения, повторится в той или другой степени и опять, и может несколько раз. Но так же, несомненно, будут охватывать и те желания, которые напомнят твое последнее письмо. Последний противник никогда, никогда не уступит первому, и будет наносить ему более частые удары, чем дольше пойдет дело. Бабы правы, через год ты не узнаешь сама себя, так измучает тебя любовь, требуя своего. И потому ты не будешь гасить эти могущественные стремления – и я не хочу быть советником против любви. Мы съедемся, как условлено. Плохо написал, сам чувствую, может поправлю в следующем.
О смерти Царя писать бы теперь уж мне поздно78, надо полагать, наверно, достала уже какие-нибудь газеты. И тут сглупил: надо было тогда же послать тебе газеты из Питера. Впрочем, фактического и немного, кроме того, что писал тебе. Подкоп в Малой Садовой – факт. По всему делу, кроме Рысакова79, арестовано и еще три участника: двое мужчин и одна женщина. Суда еще не было. Царя будут хоронить завтра. Около недели его труп стоял в Петропавловском соборе для прощания с ним народа.
О сравнении с приведенным Спенсером между индивидуумом и обществом, хоть помню теперь плохо, но знаю, что в свое время, когда читал, тоже не понравилось: как-то формально, отвлеченно, не действительно. Ты пишешь, что много не поняла – и мне ужасно приятно, что в этом я могу несколько помочь тебе впоследствии.
Только вот что, моя дорогая, ты не преувеличивай действительности, не ставь меня в смешное положение. Ты пишешь, что не можешь представить, чтобы я чего не знал. Верь, Сара, я – большой невежда. Я знаю очень мало.
Я знаю очень мало. Я знаю, что где лежит, но все только еще собираюсь брать – и теперь, наконец, остановился на надежде, на утешении, что мы будем набирать знания, отыскивать истину вместе с тобой, взаимно помогая друг другу. Не спорь, не спорь, иначе осерчаю, мое сокровище Сарка! Крепко обнимаю тебя и целую без конца.
Твой Ванька
Среда, 1, 11 часов ночи
(1 апреля 1881 г.)
Милая моя, порадуйся со мной: я ныне словно вытащен из тюрьмы. В самом деле, все последнее время меня словно держали в цепях. Теперь цепи свалились, и я чувствую себя легко, блаженно. Я снова благословляю любовь; люблю тебя ужасно, нежнее к себе, готов делать добро всем, надеюсь, мечтаю, имею уверенность. А тебя как люблю! Хотел бы быть с тобой, прижаться к тебе и только бы говорить: люблю тебя, моя дорогая, много, много. Сарочка – моя радость, моя утеха. Все нынешнее утро я не читал, я думал только о тебе. Твое последнее письмо придало мне еще более радости. Потому что порыв получил новую пищу для тебя. Вот и наука, которую я ждал от тебя, наука правды.
Попалась ты, наконец, моя дорогая. Теперь уж не заспоришь. Вот уж тебе и наши образцовые чувства. Помнишь о затишье, о возможных, по-моему, счетах. Я-то заговорил, я предполагал, значит, в душе было что подобное. Ты, милая, показала, как быть должно, ты вразумила. И за этот урок много и тепло целую тебя. Этих уроков я ждал, на них рассчитывал, об них мечтал. И какая ты умная, Сара, если уж, дескать, чего стыдиться, то самих чувств, а не того, что другие узнают об них. Милая, верная, всегда сам так думаю; здесь только провалился.
Люблю тебя много и за твое твердое прямое слово о моем приглашении ехать в Питер. Мне помнится, что написано тебе это было грубо, даже, пожалуй, самодурски. Сознавал я это и тогда, но как-то скверно был настроен и не сумел поправить. Выходило, в самом деле, как будто все дело в моем экзамене. Твое желание, твои расчеты как-то игнорировались. Одно могу сказать в оправдание: и тогда имелась в виду боязнь, не вышло бы тебе какое горе от этих неспанных бесконечных ночей. Но все равно грубость оставалась грубостью – и ты возвратила меня в границы. Дорогая, горячо тебя целую за это. Это и есть то, что всегда желалось в супружеской паре. Это – равенство. Это – взаимное обучение справедливости. Так и будем всегда стараться жить. Тогда мы всегда будем идти вперед, делаться лучше один перед другим. Теперь, как и всегда, неумытую, неограниченную никакими соображениями правду считаю первым основанием счастья всяких союзов. На этом же, верь, будет всегда стоять и наш. Твое желание идти в деревню всегда ценил, уважал, ты знаешь это, и сейчас уважаю его больше, и любить через год будем друг друга не меньше, а больше, гораздо больше, потому что уважать будем больше.
А знаешь, что утром особенно взволновало меня? Я перечел все твои письма за этот месяц. Так много от тебя любви, чувства, что занялась, зажила и моя душа. Как мне было хорошо, моя милая! Помнишь, что ты писала в письме от 9 сентября, которое еще не пришло тогда ко мне вовремя! Так-то же чувствовал и я, только не выразить, не сказать мне, как могла ты. Я выберу такие письма, буду читать их каждый день и тогда уж ничто, ни на минуту, не бросит тень на нашу любовь. Да, теперь недавняя история кончилась и все истории тоже.
Ты как-то спрашивала: утешался ли я во время истории физиологией)? Радуйся, милая моя, сильнее физиологии сказалось горе любви. Плохо или хорошо это? Для меня это хорошо должно быть. Всегда же говорил, меня надо сокрушить дотла. Чтобы могло быть построено прочное здание истинного счастья. Целую моего спасителя – архитектора долго, долго.
Твой Ванька.
Вторник, 7 [апреля], 7 ч. утра
… Знаешь, что я заметил. Мне представляется, что мы чувствуем, как будто и на такое большое расстояние друг от друга, без писем, раньше писем и просто так, душой. Что называется у нас «сердце сердцу весть подаст». В самом деле, пересматривая твои письма и вспоминая свои настроения, я понял, что очень часто и хорошо, и дурно нам в одно время. Это ужасно, согласно, резко выходит. И вот еще что странно. Иногда ни с того ни с сего делается ужасно хорошо, в другое время беспричинно тяжело. Я так уж и решаю за последнее время: хорошо моей Сарочке, как, верно, мучается, моя милая. А ведь это может быть на самом деле, я верю в это. Гипнотизм заставляет признать, несомненно, фактически и многое подобное, прямо просто непонятное. Очевидно, отношение к нам окружающего – как природы, так и людей – гораздо сложнее, чем, сколько попало в сознание, чем, сколько мы можем понять естественно. Не испугайся, моя радость, что начинаю завираться. Факт обратил на себя мое внимание, а что он значит, об этом еще потолкуем да порассудим.
От сочинений твоей ученицы в восторге, просто не верится, чтобы это было на самом деле. Да, какая же ты молодец, Сарка, я-то от тебя этого ждал, потому что ужасно верю в тебя; верь этому. А ты еще жаловалась на себя, как на учительницу. Подавайуши и… давай целоваться до смеху. Это не я один удивляюсь успехам твоих учеников – Митька тоже находит, что отлично. Молодец, молодец, молодец – моя Сарочка!
… Вот что особенно запало в душу из твоих последних писем. Ты писала: «Будем ли мы понимать также бессловесные думы друг друга», – я верю, что да, потому что очень хочу этого. Говорят, не следует пускать мужа в глубь души, пропадет у него интерес к жене. Я с этим не согласен. Только тогда хорошо, когда совсем, совсем одно: ни крошечки нет неразделенной. Не знаю, что мне и сделать с тобой за эти строки? Целовать мало, моя несравненная, моя прекрасная, моя чудная Сарочка! Понимать друг друга без слов и есть настоящее блаженство, настоящая общая жизнь. То, что из человека попадает на язык, на слово, это малость. Всего понять, с целым со всем человеком сблизиться – это именно читать в его душе, по его лицу, по его отдельным словам догадываться, сливаться бессознательно мыслью. И вот доказательство, что это лучшее, высшее сближение, по опыту мне кажется, что это понимание без слов более глубоко забирается в душу, более трогает, чем ясное объяснение. У нас это будет, верь, Сара. Кто говорит, что не следует пускать мужа в глубь души, и т. д.? Для того, что же, жизнь представляется обманом, игрой, сплошным кокетством?
Я глубоко верю, что интерес души человеческой, и настоящей, и не подделанной, вечно свеж и нет ему конца. Кажется, в день получения этого твоего письма, но до получения еще его, я с жаром говорил об этом предмете. Я в этом навсегда убежден опытом моего лучшего времени. Я теперь только мечтаю, чтобы возвратилось для нас с тобой это отличное время. Лишь бы попасть нам с тобой с первого раза на эту дорогу. А там уже мы не собьемся, не отступим ни на йоту – и будет нам жизнь блаженством. Лишь бы, лишь бы попасть…
А у меня история, Сара! Когда был у Авдотьи Михайловны, узнал от нее, что ей очень жаловалась на меня одна из фельдшериц, между прочим, на то, что ужасно непонятно читаю. Немало удивлен. Сначала сильно задело. Проектировал всевозможные способы объяснения и, наконец, остановился на том, (помня мою Сарочку, моего судью), что ни капельки не покрою, не защищу себя и признаю всю правду целиком, какая только у них окажется. Ведь они же меня любили, да и теперь еще любят, значит, действительно сплоховал, поленился, или по недостатку времени. И нам, таким-то лентяям, без уроков жизни жить нельзя.
(Страстная суббота 1881 г.)
Ночь перед Пасхой! Непраздничное настроение, надо признаться. Кто совсем разделался с грехами, как и с горем, а у меня плохо, плохо. Завидую всем. Они радуются, веселые, довольные вполне, а тут копайся в душе, кайся. А нельзя иначе. Единственное средство. Потому – не вольность, не бессознательность, а ум, опыт. Как бы отказался от того и другого, лишь бы быть довольным, хоть и чудно, по-ребячески. Но что есть, то и есть. Считаемся-ка!
Обстоятельства как бы сговорились. История с фельдшерицами, твои упреки. Ныне, наконец, кажется, еще прибавилось. Медички заявили, что лекции надо прервать, потому что наступило экзаменское время. Нужно готовиться к разным экзаменам. Мне думается, что имело значение и то, что нашли лекции не особенно полезными. Пусть так, заодно. Что же мне делать в виду стольких… Не знаю, как назвать, но хочется выразиться ни слабо, ни сильно, – ну и не знаю.
Думал, думал и решил. Исповедоваться перед собой, дави перед церковью только хотел, но не сделал, потому что Стольников так обещал достать. Это все же ведь лучше. Я совсем не прочь перебрать жизнь перед церковью. Но ведь с врали бы пришлось начать. Церковь имеет дело с верующими. С этого вопроса и начинается исповедь. Чтобы я сказал?
Ладно, исповедуемся перед собой, пред тобой! Сперва построение, а не наши с тобой! Пред фельдшерицами, конечно, виноват. Я не думал об их деле, о лекциях столько, сколько нужно. Вот что верно. Если бы я думал и старался, я не то бы им читал, и не так мало показал. Я не мог бы сказать про свое дело так, что относился к нему добросовестно. Я не напрягался над ним, не беспокоился по поводу его. Не считал его впереди разных случайных дел или просто развлечений. Во мне не было ни привычной аккуратности, ни тем более страсти к делу.
В еще большей степени это относится к лекциям медичек. Эти для меня были совсем новые и по объему, и по плану. Нужно было думать да думать. Я совсем не думал, а просто просматривал подробное руководство и читал. Правда, я был стеснен экзаменами, но тогда зачем нужно было браться? И верно тут, что именно не подумал раньше, как следует. И выходит несравненно; поделом вору и мука.
Теперь твои упреки. Да, может быть, я в самом деле не думал о тебе, ни разу никогда не подумал о тебе! Нет, я думать-то думал и много, и постоянно даже, но, может быть, ты права, что мне хорошо с тобой, вот я об этом только и думал. Ведь я еще этого всегда и боюсь – и никогда этого для себя не решу. Как же это я о себе-то в таком субъективном деле решу? Это уж тебе судить. Смотри ты, сколько есть у тебя только наблюдательности и внимания. Ты и ответственна за все. Я защищаться не буду. Я знаю, что я эгоист – и твое дело положить: в терпимой или нетерпимой степени. Только вот что! Боюсь я: расчувствуешься ты, прочтя это, и прощай всякая строгость и наблюдательность.
Но что же делать, однако? Будем переделываться. Я сам не раз звал неприятности – ну и вот они. Что ж! Я думал всегда: они учат, воспитывают, но и учимся. Чему же? Урок-то ясен, но вот странно. В себя я верю: верю, что можно все поправить и поставить вполне хорошо, но как-то совестно говорить это. Как будто так. Надо снова сделать это, не говоря ни слова, и почти про себя-то, не думая этого…
Пусть так!
А как с моим эгоизмом? Тут и не придумаю ничего. Как же тут учиться? Я знаю, что мне противен эгоизм, я хочу любить, хочу волноваться, жить для другого – но как здесь исправить дело, когда я этого не умею? Где и как учатся любви? Не прошло ли уже для меня время этого учения? А что, если это верно? Смотри сама, смотри, смотри… Брошу писать, пойду слушать Христос воскресе! Может, вспомнится старое! Может, заразит чудная радость!
Был, только-то от службы. Не знаю, слабо как-то действие. Другое ли, другое ли все здесь против Рязани; только там это сильнее, глубже захватывает…
Горячо целую мою Сару.
Твой Ванька