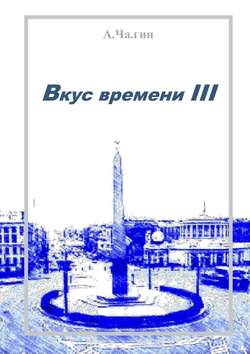Читать книгу Вкус времени – III - А.Ча.гин - Страница 2
III. Всему свое время
ГЛАВА 1
ОглавлениеСегодня бригада рабочих строительно-монтажного поезда №373 дорстройтреста приступила к основному монтажу новой платформы на остановочном пункте Солнечное – любимом месте отдыха ленинградцев.
Широкая и удобная железобетонная платформа, к которой будут прибывать электропоезда из Ленинграда, заменит старую, используемую сейчас.
«Вечерний Ленинград», 16 апреля 1979 года.
Пурпурное солнце медленно опускалось в розовое масло моря.
И было так.
Мягкий ветер развевал выгоревшие до белизны Марусины волосы. Щеголев с женой и дочерью стояли на верхней палубе теплохода «Профессор Визе», и поочередно через бинокль всматривались в предзакатный горизонт в ожидании берега. Турецкого берега.
Шел 2001 год. Конец ХХ-го века.
Александр Владиславович Щеголев с семьей путешествовали-с. Но не только как туристы – Щеголев-младший совершал паломническое странствие по святым местам, благословленный на это настоятелем церкви Петра и Павла отцом Евстафием. Вот и сейчас их путь пролегал к Святой Софии – древнейшему православному храму, превращенному мусульманами в мечеть. Но в свое время президент Турции Мустафа Ататюрк, будучи, наверное, все-таки мудрым отцом турок, если и не вернул храм в лоно русской церкви, то хотя бы прекратил в ней магометанские службы и создал музей – Айя-София.
И в этом долгом путешествии, в черед событий и встреч Александр тщетно искал свое и чужое прошлое. Рубеж веков магической силой заставлял его вернуться к истокам и собственной и чужой истории. Нельзя сказать, что настоящее Щеголева было неудачно – независимый человек, сумевший обеспечить семье определенный достаток, любимые жена и дочь – все это не позволяло жаловаться на судьбу, но ветер странствий всегда дул Сашке в спину! Неведомая сила периодически толкала его в очередные исследования пространства. И не всегда эти экскурсы были только географическими. Самыми интересными и привлекательными для него были путешествия во времени. Но прошлое время то на мгновение возвращалось, то ускользало бесследно, оставляя легкий привкус не то жженого сахара петушка на палочке, не то чернил, выпитых на спор еще в школе…
А сегодня – это Константинополь, древний город, переименованный в Стамбул дикими языческими племенами, разрушившими великую православную Византию.
Константинополь-Стамбул, как никакой другой заморский город, пожалуй, испокон веков таинственной силой притягивал россиян, начиная с князя Олега, кончая «новыми русскими», превратившими этот великолепный исторический памятник в одну большую барахолку…
В период торжества ВОРа (Великой Октябрьской Революции) Константинополь стал спасительным пристанищем для сотен тысяч русских людей, которые на противоположном, родном крымском берегу были бы неминуемо уничтожены.
Щеголев, находясь на палубе белого теплохода, пытался поставить себя на место офицера-врангелевца, спасающегося от красного террора, и хоть на мгновение ощутить, осознать ту смертельную опасность, злобу, которые источал большевистский Крым. Стоя под порывами незнающих времени морских вихрей, Саша хотел понять, как же это так случилось, что отчий дом проклял тебя, предал, и в будущем будет преследовать всю оставшуюся жизнь…
Но ярко светило солнце, изумрудное море переливалось и пенилось, а страх и ужас были совсем из другого кино.
«Профессор Визе» входил в Босфор. По южному быстро темнело, и берега стали украшаться гирляндами разноцветных огней. Стамбул возник сразу и величественно. Поистине это была столица Османской империи! Крутые берега, словно соты, были облеплены разнообразными сооружениями, зданиями, увенчанными куполами, башнями с разноцветной американской рекламой на вершинах. Ночное бархатное небо прорезали умело подсвеченные минареты, которые были так ожидаемы путешественниками и которые придавали необходимую завершенность любому восточному городу. И дочь и мама – Маша и Александра Щеголевы – были в полном восторге. Неповторимый колорит и дух города были очевидны, но почему-то, напрашивалось интересное сравнение: Стамбул – Босфор, Петербург – Нева. По-видимому, масса вольной воды, отсеченная громадами строгих архитектурных силуэтов, навевали ассоциации.
В семье возникла дискуссия.
– Оба города прекрасны! И, все-таки, несравнимы, – подвела итог Маруся и добавила задумчиво, – А я бы здесь смогла жить!
– Подожди, Маруся, так сразу и жить. Давай сойдем на берег, а там посмотрим… – мама была, как всегда, осторожна.
Необходимо сказать, что Щеголев сделал семье сюрприз, и когда Аля узнала что они поедут в Стамбул, да еще на корабле, да через все Черное море, то ее охватила паника – для нее восточный мусульманский город, населенный, словно наш Кузнечный рынок, одними смуглыми брюнетами, представлялся логовищем террористов и бандитов!
Но прекрасная действительность вскоре опровергла все опасения, – турецкоподданные были хоть и не в меру шумны, зато очень приветливы и добродушны.
Теплоход во мраке ночи вошел в Мраморное море, подрулил к стамбульскому порту и мастерски причалил. Вдали, на горизонте светились огни таинственных островов Мармар. Капитаном были отданы последние команды, и «Профессор Визе» замер у пирса.
Щеголевы благополучно прибыли в Турцию!
На утро, после флотского завтрака, они отправились в Стамбул – древний и сказочный. В программе значилось посещение мечети Ахмет-хан-Султан, музея Айя-София, Азии, как части света, на которую можно было попасть по «японскому мосту» и, главное, что естественно для русских в Турции, настоящих восточных базаров.
Утренний город был немноголюден и свеж. Высоченные пальмы, кипарисы и другие курчавые деревья образовывали прихотливые восточные парки, скверы и сады, именно Семирамиды, как хотелось думать нашим путешественникам. Журчали фонтаны. С минаретов заунывно, но колоритно звучали голоса муэдзинов, усиленные первоклассной аппаратурой «Сони». На улицах и у мечетей к туристам приставали менялы и, наверное, нищие бомжеватые дервиши с набором сувениров, хотя Бог их знает, кто они были на самом деле.
Но вот в безоблачном небе чуть выше встает солнце, и влажная жара разливается по городу. Незнакомые терпкие запахи, пробудившись вместе с солнцем, проникали всюду, и, казалось, даже сквозь кожу. А к Алиному удивлению, все встреченные турецкие люди и даже «дервиши» вели себя цивилизованно, были вежливы и совсем не походили на террористов. Это успокаивало нашу Алю. Она расслабилась, и стала уже спокойно и с чувством внимать красотам Востока.
Они погуляли по улицам столицы Востока, попили кофе по-турецки и посетили Золотой базар:
– Перец, ваниль, корица дешево!
– Чашки, ложки, только у нас!
– Ковры, покрывала даром!
– Золото, бриллианты по лучшим ценам!
– Рахат-лукум! Щербет! Слаще меда, слаще женщины!
Действительно, там было все! И, как ни удивительно, все говорили по-русски! Проходив по базару часа три, наши путешественники – от криков, толкотни и обилия товаров – утомились безмерно, и нашли отдохновение только под сводами храма.
Изначально православный храм Святой Софии, а теперь Айя-София – гигантское, монументальное сооружение, встретил Щеголевых таинственной тенью и прохладой. Воистину это было величественное свидетельство силы христианской веры, каким-то сверхъестественным образом поверженной турками-османами. Под натиском племени молодого, незнакомого, несокрушимый Константинополь пал, завершив свой круг жизни: от императора Константина I, основавшего город и перенесшего сюда, на проливы, столицу Византии, до императора Константина же, но XI-го, погибшего вместе с православной верой и всем своим государством 29 мая 1453 года.
Люди, более сведущие в религиозных преступлениях и наказаниях, позже пояснили Саше, что сия Божья кара последовала за грехи и сомнения в истинности веры.
Наверное, так и есть, но все равно грустно.
Да, в раннем христианстве, бывшем в основном православным по сути, тогдашние правители, в первую очередь Византийские, вели непрерывный поиск путей и способов познания не только святой веры, но и укрепления государственности. Василевсы искали возможность практического приспособления религии для укрепления светской власти, расширения «зоны охвата» других народов собственной верой, а, что вероятнее всего, для увеличения жизненного пространства и богатства самих правителей. По-видимому, такие события, как иконоборчество, мистические и схоластические изыскания, заключение унии с католической церковью, при главенстве оной, привели к гибели святого источника веры у этого, данного народа, на этом, данном месте.
Но, почти сразу и буквально из пепла, восстало Православие на Руси, во всем своем истинном смысле и значении. И факел не угас.
Во всяком случае, хочется в это верить.
И Саша доподлинно знал, что и Щеголевы приняли участие в укреплении «правильной» и «славной» веры в России, ведь в те далекие времена становления христианской религии на Руси их род мог активно влиять на преобразования в государстве, будучи не последней фамилией в русских княжествах. Семейные мифические предания сохранили свидетельства о трагических и величественных событиях в Рязанских и Московских уделах, в которых принимал участие их старинный род. По крайней мере, что подтверждалось уже документально, его прадед Александр Арсеньевич в XIX веке внес малую толику в продвижение света веры, воздвигнув Крутогорский храм на собственные средства. И Александр Владиславович, продолжая эту святую традицию, по мере своих скромных сил и возможностей, вместе с соратниками тоже помогал сохранить и возродить Православную Веру после коммунистических гонений – он принимал участие в восстановлении церкви Петра и Павла в Петергофе.
Но стоит, все же, вернуться к подножию другого храма – Святой Софии, в Стамбул.
Этот поражавший воображение храм, явился шедевром среди всех православных базилик построенных как до шестого века, так и много позже. Даже великолепный Исаакиевский собор в Петербурге, хотя и совершенно другой по стилистике, но столь же монументальный, не производит столь внушающего впечатления величия, как самого здания, так и Православной веры.
Храм Святой Софии воздвигли архитекторы Анфимий из Тралл и Исидор из Милета. Его огромный купол, под сень которого вошли русские путешественники Щеголевы, был возведен на четырех столбах с помощь своеобразных парусов. Массивные опорные столбы, совсем не заметные для зрителя и сорок окон, прорезанных в основании купола, создавали необыкновенный эффект – чаша купола словно парила над храмом. Соразмерный с величием Византийского государства в то время, храм Святой Софии воплощал в своем образе представления древних создателей его о вечных и непостижимых «сверхчеловеческих» началах мирозданья.
Храм, превращенный в музей, был полон, хотелось сказать – паломниками, но нет, всего лишь туристами со всего света. Слышалась японская речь, немецкая, чешская и даже афганская. Афганцы, кстати, отличались от всех остальных туристов своим строгим и каким-то родным советским, совершенно безликим одеянием.
Воспользовавшись моментом, когда никого из персонала исламского «музея» рядом не было, Саша перекрестился и вознес нехитрую молитву о воскрешении и возрождении всех христианских реликвий и светочей.
По очень субъективному мнению Щеголева, мусульманство, как одна из самых «молодых» религий, пока еще не смогла освободиться от средневековых заблуждений и своего скрытого жестокого и первобытного начала. Сомнение, прежде всего, вызывало очевидное расхождение благородных слов с делами мусульман, когда борцы за свободу, богохульно используя вечные святые истины, убивали и резали людей направо и налево. Доморощенного богослова тревожило также то, что в основе этой религии лежит ежегодная кровь, пусть даже и овцы, а также тот факт, что исламисты, за неосторожно сказанное слово, считают своим долгом и почитают за честь забить камнями до смерти любого еретика. Таких зверств нет ни в каких других мировых религиях, не считая диких языческих.
Аллах говорит: «если ты хочешь, чтоб тебе было хорошо, не смотри наверх, смотри вниз, на тех, кому хуже, чем тебе, и обретешь покой».
Разумно, но, к сожалению, развитие событий показывает что мусульмане-азиаты, живущие действительно хуже европейцев-христиан, смотрят только вверх и желают жить именно так, как в Европе, причем, сейчас и сразу. И обвиняют всех и вся, естественно, кроме себя, в своей же недееспособности, подменяя идеалы веры и справедливости мирскими желаниями. Эти вопросы, по мнению Щеголева, относятся скорее к социальной сфере, к области чистой морали, чем к вопросам религии.
И в то же время, а что тогда есть сама религия? Не в том ли состоит суть, что никому не вредно помнить, как бы не вознесся он высоко и как бы не велик и могущественен был он, что есть тот, кто всегда выше, всегда сильнее и всегда мудрее тебя?
Есть ли Бог, нет ли – вопрос совсем не материальный, но и не только философский. Для человека, желающего хотя бы просто существовать на белом свете, нет другого пути кроме пути мира и добра. Нелепо было бы утверждать, что стезя человека в совершенствовании зла и орудий смерти, как может показаться обозревая историю человечества, и поэтому любое бесовское начало противно Господу, суть самому человеку.
В людских сложных взаимоотношениях все едино неприемлемо, когда в результате страдают простые люди…
Как бы там ни было на самом деле, но пока что мусульманские идеологи не смогли убедить мир в справедливости и человеколюбии своей веры, когда простые приверженцы Аллаха и Магомета, прикрываясь их именами, взрывая и себя и других, норовят поссорить весь мир. А сегодня они подключили к этому дьявольскому празднику уже и женщин, и оголтелые шахидки, обмотавшись взрывчаткой, желают взорвать и любовь, и всю будущую, еще не родившуюся жизнь.
Или, возможно, дело вовсе не в этнических религиях – просто злая энергия, источаемая бездумной технологией и людскими грехами, достигла критической массы, что время от времени случается в этом мире, и черный дух, излившись через края ада, проник на землю? И, кажется, что только добро и терпение, а не битвы и противостояние, способны разрешить дела человеческие. А когда кажется, креститься надо…
Конечно, необходимо время и терпение, чтобы мы, люди разных убеждений, нашли одну общечеловеческую справедливость и научились ценить и уважать, как это не покажется странным, прежде всего, себя. Истинно уважая себя, человек никогда не сможет переступить через Божьи заповеди, существующие во всех религиях, а значит обидеть и оскорбить другого, априори равного ему человека.
Хотя нам ли судить, и что мы можем знать о путях Господних…
Так что Саша осенил себя крестным знаменем хоть и тайно, но гордо – с чувством уважения к святыням и православия и восточной религии, которая нашла в себе силы немного подвинуться и освободить храм от не предназначавшихся ему обязанностей. Он видел, что в этом огромном как мир бывшем православном храме, превращенном в музей, в центре исламской страны, мирно гуляют и любуются этим шедевром зодчества и человеческого трудолюбия люди разных наций и разных вероисповеданий. Щеголев углядел в этом факте символ будущего примирения и единения народов на основе простых и понятных истин – не убий, не укради, не возжелай…
Поклонившись, Александр мысленно передал привет и благодарность главному Византийскому собору, прародителю Русской веры, от Владимирского собора в Херсонесе и церкви Петра и Павла в Санкт-Петербурге.
И, вспомнив святое чудо на Крестовоздвижении во Владимирском соборе, Саша ощутил, что духовный мост накрепко соединил столь далекие берега.
За неделю до этих событий Саша, Аля и Маша побывали на Православном празднике Крестовоздвижения в Херсонесе на окраине славного русского города Севастополя.
Это Крестовоздвижение было, как считал Щеголев, Великим событием и не только Православным, но и светским – государственным и политическим, так как восстанавливался и воскресал собор, воздвигнутый на святом месте принятия христианства князем Владимиром и, следовательно, всей Русью. И сегодня, также как тысячу лет назад, происходило воскресение веры и надежд русских людей. Отсюда, из теперешних руин, из до сих пор доживших древних стен и начертанных на них имен вновь пойдет непоколебимая сила Отечества, еще вчера немного покачнувшегося, но выстоявшего и пережившего злой век людских мучений.
Тогда, на светлом празднике Крестовоздвижения, свершилось чудо! При соприкосновении нового креста с главой собора, словно безмолвная вспышка, произошло необыкновенное явление, – в ясном небе возникло белое изображение храма, своей вершиной, касающееся креста.
Что это – предвестие, знамение? По меньшей мере, как посчитал Александр, это был знак торжества возрождения Веры народа и становления Российского Государства.
И ничего, что сегодня Херсонес и Севастополь «принадлежат» самостийной Украине, волею Хрущева вместе со всем Крымом, одним махом отданных братской республике, – хай живе славный Киев! В те времена никто, в том числе и самый мудрый и дальновидный председатель председателей, и в страшном сне не мог предвидеть распада великой коммунистической державы на удельные княжества. История, как известно, ничему не учит, и Новая Византия тоже просуществовала недолго. А что касается Украины, то, несмотря ни на что, мы единый народ и это наш общий православный мир. И странно, что сегодня исконно русским людям, проживающим на исторической земле У КРАЯ России, хочется подчеркивать эту свою обособленность. И река Рось находится близ Киева и впадает в Днепр, а истоки Днепра на Смоленщине. Ведь никто же не говорит, что Киев – древняя столица, скажем, Речи Посполитой или Османской империи. Даже новые «реформаторы от истории» знают: Киев – стольный град святой Руси, в котором, собственно, и зародилось наше общее государство.
В этом смысле показательна точка зрения классика украинской литературы Семена Скляренко. В своей книге «Владимир» он пророчески пишет:
«…И никто из них (братья – князь Владимир и князь Ярополк) не знал того, что именно в это время к украинам Руси, к мирным городам и селам на западе подступает враг, который давно уже отточил свой нож и ждет только случая, чтобы напасть.
– Drang nach Osten!
Этот клич угрожал славянским землям уже не впервые. За всем, что творилось на Руси, пристально следили германские императоры, за спиной которых стоял римский папа».
Великие народы могут и должны подняться над простотой бытовых отношений и перемочь, кажущиеся первостепенными и насущными, никчемные житейские неурядицы. Единение добрых сил того стоит. Хватило бы только разума и способностей понять всю глубину и грандиозность событий, в которых наши народы принимают непосредственное участие.
А время окончательных расчетов придет.
Обязательно.
Турецкий, вернее, византийский храм Святой Софии открыл для Александра какие-то новые истины.
А чудо на Крестовоздвиженье в Херсонесе заставило поверить, что все возможно в этом мире.
Да, для того чтобы обрести подлинные покой и счастье в любви и вере, подумал Саша тогда, нужно обязательно пройти все испытания предназначенные, наверное, каждому человеку. Иначе невозможно понять, что же такое настоящее счастье и что же такое любовь на самом деле.
Этими сказочными путешествиями в Стамбул и Крым, закрывающими ХХ-й век, откроем новый этап жизни Щеголевых. Но все это случится много, много позже, четверть века спустя, а сегодня…
…Опоздав на прямой поезд до Ленинграда, демобилизованный солдат – рядовой Щеголев, сел на электричку до Москвы. Ехать днем в «гражданке» с воинскими документами срочника было гораздо рискованней, но интересней – присутствовал элемент авантюры. В отличие от кондовых дембелей, которые загодя готовили специальную форму, альбомы и чемоданы под общим названием «дембельский», Сашка первым делом, получив увольнительные документы на руки и простившись с ребятами, переоделся в заранее припасенную «гражданку» – синий костюм, замшевые туфли и обычную, не зеленую рубашку, в ту уже непривычную одежду, которая, по его мнению, должна была сразу придать ему чувство полной свободы. Да и козырять уже осточертело.
Как же он мечтал об этой минуте! Правда, парадную военную форму со всеми своими скромными регалиями он свернул и положил в портфель – на память! Такой цивильный вид, может быть, и вызывал у Саши какие-то высокие чувства, но имел существенный недостаток: теперь нужно было покупать обычный билет, а денег после торжественных проводов оставалось в обрез. Несмотря на подозрительных милиционеров и постоянно мелькавших патрульных, до Москвы Саша доехал без приключений.
А Москва, как и положено, встретила «гостя столицы» суетой вокзалов, толкучкой у метро и такой знакомой Александру с детства праздничной атмосферой новой жизни. С Курского вокзала Щеголев вышел в город и с удовольствием пешком проделал путь, который он, новобранец, прошел два года тому назад в другую сторону.
Но на Ленинградском вокзале его все-таки настиг карающий меч воинской дисциплины. А началось все прозаически: в обычной кассе билетов на сегодня не было. Тогда Саша пошел в воинскую. Когда он уже брал билет, предъявив красный (рядовой) военный билет, ему на плечо опустилась тяжелая рука.
– Почему не в форме, солдат? – Это был патрульный офицер, – предъявите документы, и отойдемте в сторонку.
Саша лихорадочно соображал: из-за такой чепухи накрылся дембель, на гарнизонной «губе» промаринуют, обратно в часть отправят! Он уже держал билет в руках и рылся в карманах в «поисках» документов. С двух сторон встали патрульные солдаты. Поезд отходил через полчаса…
И тут Александр решился – он резко толкнул офицера и сделал подсечку правому патрульному, зря учили что ли, тот грохнулся. Офицер тоже не удержался на ногах и далеко отлетел, ударившись о какой-то торговый сундук. Саша опрометью рванулся, расталкивая толпу, прямо на железнодорожные пути. Народ сомкнулся за ним, отсекая от преследователей. Краем глаза он успел заметить, что, растерявшийся поначалу стоявший слева патрульный бежит за ним, но явно не слишком старается. Щеголев спрыгнул с перрона и, пробежав вдоль путей, на четвереньках перелез под поездом на соседнюю платформу. Подтянувшись за поручни и с ходу запрыгнув в какую-то электричку, Саша понесся по вагонам, хлопая дверьми, дальше к голове поезда. Сильно мешал портфель, но не бросишь же – там армейские «реликвии»! Саша перекинул ношу в другую руку и попытался отжать дверь с противоположной стороны вагона. Удалось! Он обеспечил себе путь отхода, можно немного и отдышаться. Саша рассчитывал, что патрульный офицер не видел, до какого города он брал билет и специального оцепления именно поезда Москва-Ленинград не будет. Он помнил, что ленинградский поезд отходит с четвертого пути, то есть, через одну платформу от этой, и значит нужно было как-то перебраться еще через два состава. А времени уже не оставалось. Саша выглянул из тамбура, погони видно не было. Он спрыгнул вниз и опять под вагонами перебрался ближе к концу перрона, а оттуда, кажется, уже на нужный путь. Пробежав под платформой, и зайдя с головной стороны состава, Щеголев, весь перемазанный мазутом, наконец, вылез на дневной свет у родного ленинградского поезда. Оглядевшись, он запрыгнул в первый же вагон и пристроился в дальнем купе. Оставалась минута…
Как ни долга была эта минута, но состав тронулся! Вот теперь-то, уже можно было сказать, что Александр Щеголев возвращался домой.
Необходимо пояснить, почему Александр опоздал на прямой поезд Владимир – Ленинград.
Простившись с ротой, в которой он провел, может быть, и не лучшие, но очень полезные два года, Саша мысленно уже окончательно расстался с армией. Он уходил один по личному распоряжению начальника политчасти, и оркестр не сыграл ему «Прощание славянки». Но все равно сейчас он был счастлив, не подозревая, что Советская армия самое спокойное и предсказуемое место в мире, и ох как нелегко ему придется в будущей «свободной» гражданской жизни.
Перемахнув по старой привычке через забор, он направился через Доброе село к вокзалу. Но, проходя мимо знакомого дома, в котором теперь жил их бывший сержант Десятков, женившийся после демобилизации на местной девчонке, Саша решил заскочить к ним уже в новом, вольном качестве. Была суббота и Десятков с супругой, к несчастью, оказались дома. Бывший сержант, на удивление, очень обрадовался Саше, видимо памятуя о совместно прожитых «боевых» днях и их приятельских отношениях.
Он быстро организовал праздничный стол и после банкета, как Саша не отговаривался, оставил ночевать, говоря при этом, что «поезда каждый день ходят, а когда мы еще увидимся, – утром я тебя сам посажу на поезд». И действительно, тут Саша был с ним согласен, – когда еще…
К тому же и воздух свободы пьянил, что хочу, то и делаю – день плюс, день минус, все равно он свободен и когда угодно доберется до родного города. И последний вечер во Владимире сопровождался нескончаемыми разговорами – «А помнишь?..», хотя былинные события происходили недалече и были совсем не «преданьями старины глубокой».
Кстати сказать, Саша, как всегда, готовил сюрприз своим близким и никому не сообщил о своем приезде, написав в последнем письме, что сроки «дембеля» покрыты мраком, и поэтому задержку в дороге мог себе позволить.
Сержант Десятков был родом из Бийска. Он с увлечением рассказывал о своем родном Алтайском крае. О красотах гор и долин, чистоте рек и озер, о добрых сибирских людях. Но сам после армии остался почему-то во Владимире. Оно, конечно, и понятно, красоты красотами, но медвежий угол (в прямом смысле) и есть «медвежий угол». Любой городок в центральной России после непролазной тайги покажется раем.
Саша помнил, что там, на Алтае похоронен его дед и оттуда уходил на фронт его отец, оставив в глухом селе бабушку Катю совершенно одну. Он с большим вниманием слушал даже заметно приукрашенные рассказы сержанта о сибирском крае, куда волею судьбы были заброшены старшие Щеголевы.
Почему-то Александр не стал рассказывать об алтайской ссылке своих родственников новоявленному владимирцу, хотя большинство русских поселенцев оказались в разное время в тех краях отнюдь не по своей воле. Еще со времен царя Алексея Михайловича туда отправляли преступников на поселение просто вместо наказания и даже вместо смертной казни.
За столом, в присутствии каких-то родственников жены, Десятков красочно живописал о своей теперешней гражданской «шикарной» жизни в престольном граде Владимире, забыв откуда родом Щеголев или считая, что такие развлечения как посещение ресторана, парка культуры и отдыха недоступны для простого человека и в Ленинграде. За праздничным столом, Саша испытал странное чувство окончательной свободы: он мог пить водку не таясь, и ничего за это ему не грозило. Если в меру, конечно. В голове мелькнуло, что как-то глупо мерить подлинную свободу водкой, но это, наверное, было для него просто символом отмены всех запретов.
В общем, еще один прощальный армейский вечер с выходцем из далекого Бийска, прошел для совсем еще молодых ребят хорошо и весело. У них все было впереди, и перед ними только-только открылась новая страница жизни. И кто знает, как распорядится Господь их судьбой…
Одним словом, на вокзал они с Десятковым пошли только на следующее утро, и Саша неприятно удивился, узнав, что поезда на Ленинград ходят не каждый день. Под прикрытием друга было все-таки не так опасно находиться на владимирском вокзале в гражданке. Патрулей и знакомых офицеров на горизонте, кажется, не просматривалось, но требовалось держать ухо востро. Они купили билет на электричку до Москвы, и Саша легко простился с Десятковым.
Его ждал Питер! И больше они со своим сержантом не виделись уже никогда.
Возвращаясь назад, в смысле, вперед – к Сашиному экстремальному отъезду из Москвы, можно было уже с уверенностью сказать, что беда прошла стороной. После инцидента на вокзале, и когда поезд набрал приличный ход, Александр вылез из спасительного купе, помылся, почистил одежду и прошел в свой законный вагон. Действовал он все же с некоторой опаской, – кто его знает, что успел сделать и кого смог предупредить патрульный офицер. Ведь получил-то он прилично, да еще при исполнении! Пусть простят Щеголева и этот офицер, и родная армия – на кону действительно стояла свобода!
Но в конечном итоге все закончилось благополучно, и поезд с демобилизованным Щеголевым прибыл на Московский вокзал Ленинграда без дополнительных происшествий. Добрый и родной Ленинград ждал своего блудного сына.
Рабочий день был в разгаре, и проектный институт кипел в трудовом порыве. Кто пил чай, кто обсуждал мировые проблемы в курилке, а кто и стоял в очереди, занятой для всего отдела в Пассаже за дефицитными женскими сапогами или туалетной бумагой.
Зональный проектный институт стал первой серьезной работой Александра после армии. Некоторое время он проработал художником в сельском клубе в Рождествено рядом с имением Набоковых и «полустанком» Выра, воспетым Пушкиным, к которому Саша тоже приложил свою высокохудожественную руку. Но как только наступила зима, и ездить в эти замечательные места на перекладных стало проблематично, он простился с писателем Набоковым и станционным смотрителем Выриным и вернулся в теплый Ленинград.
Воспользовавшись связями отчима Юрия Васильевича и продемонстрировав свои художественные таланты, Щеголев устроился на должность Старшего (с большой буквы!) художника в Отдел информации под начало величественной и наиинтеллигентнейшей Марианны Тарановской, напоминавшей Саше Екатерину П во времена ее переписки с Вольтером.
И вообще, Отдел информации был полон незаурядными личностями: старшим специалистом патентного сектора значился импозантный Теодор Брониславский, поражавший воображение своими манерами и благородным видом; сотрудником сектора иностранных языков был Вадим Зайончек, эрудированный лингвист и собиратель фигурок и оригинальных изображений всевозможных зайцев; непосредственным Сашиным начальником была Зарифа Павловна, имевшая своеобразную восточную внешность, органически сочетавшуюся с ее европейскими взглядами на стиль и качество жизни.
Но «звездой» Отдела информации, да и, пожалуй, всего института, набитого творческими людьми и знаменитыми архитекторами как переполненный автобус в «час пик», был, несомненно, Владимир Лисунов – художник, поэт, киноартист и просто большой оригинал. Эпатаж был его стихией.
Саша, идя на работу от метро, часто наблюдал Володю в длинном черном пальто, со свисающим до земли белым шарфом, в широкополой черной шляпе, вышагивающим по Невскому проспекту и читающим на ходу томик Бодлера в вытянутой руке. Лисунов, по своему обыкновению, пребывал в углубленном познании великого французского символиста, и ему было безразлично, где он находится и что вокруг него происходит.
Во времена строительства развитого коммунистического общества подобные фигуры, демонстративно презиравшие советскую действительность, были наперечет и в самом обществе, и в определенных государственных органах.
А чего стоили его картины, которые Лисунов рисовал в промежутках между оформлением серых выставок чужих строительных «шедевров». Они, эти произведения Владимира, хотя на взгляд непросвещенного Щеголева и были немного однотипны и несмотря на обилие эфирных персонажей, бессюжетны, но, безусловно, являлись проявлением необычного таланта и наглядным укором еще более однообразному социалистическому реализму.
Владимир Лисунов был «авангардистом», как тогда это называлось, принимал участие во всех подпольных и скандальных художественных выставках и был хорошо известен в городе. На почве общих взглядов на действительность и творчество, Саша сошелся накоротке с непризнанным гением и даже спустя долгие годы поддерживал с Лисуновым дружеские отношения.
Через много лет Щеголев узнает от знакомого художника Николы Зверева, что Володя трагически погиб при неизвестных обстоятельствах в собственной закрытой на задвижку квартире. И тайна данной запертой комнаты останется навсегда неразгаданной.
А неизбывная память о человеке, жившим своей высокой и непонятной жизнью, вопреки иезуитским нормам и правилам, память о художнике по большому счету, о настоящем искателе искусства и воистину независимом творце, останется не только в памяти людей знавших его лично. Память о «бесовском и божественном» художнике останется и у искусствоведов, и даже у историков развития советского социалистического (мы не ошиблись!) искусства, и у собирателей художественных идей и направлений. Картины Лисунова, не без помощи Александра разъехавшиеся по всему миру, еще долго, если не вечно, будут говорить с людьми Володиными образами и символами…
А сегодня все были еще живы, здоровы и молоды!
Художники отдела информации Лисунов, Щеголев и Петров, как рьяные передовики, занимались в актовом зале оформлением юбилейной выставки к десятилетию института.
Лисунов был старожилом Отдела информатики, а Саша, обосновавшись на новом месте, соблазнил своего лучшего друга Юрку устроиться к ним в институт «на клёвое место», и теперь они вместе вкручивали свои «штучки» разомлевшим от собственных изысков сотрудникам института.
В самый ответственный момент выбора общего композиционного решения юбилейной выставки, пришла Зарифа Павловна и сказала, что Щеголева вызывают в Первый отдел.
Позже, в другие времена, вечная память о специфических Первых отделах выветрится из мозгов постсоветских граждан, но тогда этот отдел, как всевидящее око неусыпного КГБ, мало того что был в каждом сколь-нибудь значимом предприятии, но и вершил на местах судьбы людей.
Саша явился в кабинет и нашел там, кроме начальника отдела, который, сказав «вы тут побеседуйте», удалился, еще и приятного молодого человека в неброском штатском. Молодой человек, представившись «Иваном Ивановичем», повел разговор высоким штилем о заоблачных материях любви к родине и призвании человека как такового.
– Вот вы, Александр, почему до сих пор в комсомольскую организацию института не вступили? – спустившись с небес на землю, задал первый каверзный вопрос компетентный собеседник.
– Да, знаете ли, как-то еще не сподобился, – Саша хотел добавить «милостивый государь», чтобы вести диалог в заданном ключе, но воздержался.
– Нехорошо, (батенька! – как бы звучало) вам срочно необходимо это сделать! Ведь вы, Щеголев, принимаете участие в международных выставках, представляете лицо института…
– Да-да, непременно, вот прямо сейчас пойду и запишусь, – и Саша сделал движение, чтобы встать.
– Немного задержитесь! – голос «Ивана Ивановича» приобрел металлические нотки. – У меня есть для вас, Александр Владиславович, дельное предложение. Вы, как творческая личность, общаетесь с широким кругом людей, бываете по службе в разных городах и знаете, так сказать, общество изнутри…
Молодой человек сделал многозначительную паузу, но и Саша был не лыком шит, он, конечно, уже догадался к чему этот разговор.
– Мы, – с нажимом произнес вельможный вымогатель, – гарантируем вам свободу общения, быстрый рост по службе, восстановление в Мухинском училище и многие другие льготы, а вы, товарищ Щеголев, должны будете информировать нас о ваших встречах и впечатлениях. Обязуюсь вас особенно не тревожить, – «Иван Иванович» расслабился, – Мне кажется, что история ваших недавних приключений в армии, да и несчастий всей семьи Щеголевых в прошлом, должны способствовать принятию вами положительного решения.
Даааа, подготовился к разговору товарищ, знает ведь, что я безуспешно пытался восстановиться в Мухе. Следили, что ли? А на счет быстрого роста по службе, Саша уже имел свое мнение. Он работал в должности Старшего художника и донимал то начальство, то отдел кадров риторическими вопросами о звании в должностных инструкциях Ильи Ефимовича Репина или приставал к парторгу с инициативой по введению по всему Советскому Союзу таких должностей, как – Старший поэт, Главный писатель или, скажем, Младший критик. С этим вопросом, по крайней мере, ему было все ясно, и Саша перешел к другому.
– Простите, а под свободой общения вы что имеете в виду, – осторожно поинтересовался Щеголев, – до каких границ она, эта свобода, будет простираться?
– Это вы мне бросьте, Александр Владиславович. Мы оба понимаем, о чем речь. Я хочу только предостеречь вас от необдуманных решений.
– Конечно-конечно! Именно поэтому, Иван Иванович, я прошу вас дать мне подумать, – интонацией Саша как бы поставил точку.
– Хорошо. Я вас найду, товарищ Щеголев.
Не сомневаюсь! – уже в дверях подумал Саша.
Интересное, вообще-то, предложение: «шифрованные донесения», конспиративные квартиры, слежка за «объектом», сокровенные тайны родины…
«Подвиг разведчика» какой-то или «Мертвый сезон»…
Наверное, и оружие выдадут!
Сегодня, на седьмом десятке лет, оглядываясь назад, Владислав Александрович Щеголев мог сказать, что достиг заветной цели всей жизни, – выжил! А, выжив, несмотря ни на какие преграды, получил высшее академическое образование. И еще одно желание, кажется, сбылось на склоне лет – от него все отстали.
Все!
Слава Богу, он никому больше не нужен! Ни компетентным органам, ни жилконторам, ни социалистическим работодателям!
Все мытарства позади – Владислав Александрович вышел на пенсию. Теперь, на этом заслуженном и выстраданном отдыхе, как ветеран войны и труда, он имел стабильный доход в виде повышенной пенсии, имел комнату в центре города рядом с Дворцовой площадью, дачу в 40 минутах езды, кое-какие накопления и полный покой! Господи, полный покой – какое счастье!
И никто теперь не смеет его беспокоить. Повторяю, не с-м-е-е-т! Тем более что по случаю двадцатилетия Победы В. А. Щеголева отметили правительственной наградой, и в райвоенкомате даже не пришлось заполнять анкеты о социальном происхождении, и при вручении юбилейной медали военные чины не задали ни одного провокационного вопроса.
Всё! Мирские дела завершены. С чистой душой можно заняться подведением итогов, предаться любимой живописи и разобрать накопившийся архив.
Правда, оставалась еще его семья, то есть, точнее, сын, который стал совершенно не управляем и не хочет слушать дельных советов отца. Но и эти так называемые родственные посещения и само общение можно ограничить. Всё в меру. Главное – покой!
Одно время Саша радовал Владислава Александровича, – он много рисовал, учился хорошо, занимался во Дворце пионеров и был хоть и живым, бойким мальчиком, а все же не сорванцом. Позже, когда Саша подрос, то он очень изменился, и отец стал проявлять озабоченность занятиями сына. Это все Тамара виновата, с ее либеральным отношением к воспитанию, считал Владислав. По мнению Щеголева-старшего Саше надо было уделять больше внимания академическому рисунку и специальной учебе, а не каким-то легкомысленным занятиям этой дикой, невообразимой музыкой и веселым компаниям. Ах, если бы он, отец, мог активней влиять на поведение сына. Щеголев и так чуть не каждую неделю выговаривал Тамаре о никчемных увлечениях Александра, но хоть об стенку горох, никто не желал его понимать и они, видите ли, не считали нужным усиливать контроль за поведением и интересами сына. Вот если бы они с сыном жили вместе, то Владислав Александрович уж научил бы Сашу уму разуму…
Хотя нет, совместная жизнь не для него. Исключено!
Владислав Александрович уже не мог себе представить, как это можно жить с другими людьми бок о бок. То, что люди в подавляющем большинстве своем были ему, Щеголеву, совершенно чужими, он понял давно, и после собственных неудачных жизненных коллизий, больше уже не делал попыток сблизиться с кем бы то ни было. Он и в молодости-то плохо сходился с людьми. Видимо, повышенные требования Владислава к личностным отношениям вызывали у окружающих ответную, не всегда адекватную реакцию. Он, проживший почти всю жизнь по чужим углам, умел, конечно, ладить с соседями и сослуживцами, оставаясь в строгом душевном отдалении, но и только.
Последний родной человек – сестра Александра, адмиральша и светская дама, тоже давно перестала отвечать жестким требованиям Щеголевской морали и суровых канонов, исповедуемых Владиславом.
После скоропостижной смерти Петра Федоровича и от сестры, и от всей семьи Грановичей Щеголев также отдалился, хотя он всегда помнил об их помощи в тяжелые годы. Владислав изредка навещал сановную родственницу и помогал воспитывать, оставшихся без твердой мужской руки, ее детей. Советами.
Но в середине пятидесятых годов и эта, относительно спокойная Щеголевская пристань родственного отдохновения, погибла безвозвратно – трагическая случайность, детская шалость унесла из жизни надежду Грановичей пятнадцатилетнего Евгения, младшего сына Петра Федоровича и Александры Александровны. Дом адмирала рухнул окончательно. Сестра еще не пережившая смерть мужа, теперь потеряла и любимого сына. Смысл жизни пропал, и большой, когда-то оживленный и гостеприимный дом Александры опустел уже окончательно.
Через десять лет скончалась и сама Александра Александровна, – любимая сестричка Туся, писавшая вирши, ставившая спектакли и наполнявшая жизнью их чудесный дом в Песчаном.
Что ж нам еще готовит судьба-злодейка? Вся жизнь – прахом?
Владислав Александрович, стоя над могилой сестры, в который уже раз обратился к прошлому. Он перебрал всю их прошлую жизнь – трагическое время октябрьского переворота, страшное сталинское лихолетье, тяжелые годы войны, смерть мамы и Грановича, вспомнил чудесные спасения от надуманных злой волей напастей. Было все. Казалось, что весь мир ополчился на них. Пережив в одну минуту всю свою жизнь, Владислав Александрович, к ужасу, пришел к неожиданному выводу, что все было… напрасно.
ВСЕ НАПРАСНО?!
Вся жизнь прожита во имя спасения самой жизни. И что?
И брат Борис, и мама, Екатерина Константиновна, и папа, Александр Александрович, и вот теперь сестра ушли, сбежали от Владислава, оставив опять его одного в темной холодной комнате, как когда-то в далекой Кашире. Владик хотел заплакать, позвать маму, крикнуть – ну, придите же, придите, я не могу больше быть один…
Но никто уже не скажет:
– Чего ты воешь, здесь твоя мама, никуда не делась!
Та, что смеясь над мальчиком, говорила так, теперь тоже лежала в могиле.
Он очнулся. Седина и возраст уже никогда не позволят ему никого позвать, не позволят горько заплакать. Да и звать-то было больше некого и незачем.
Все что могло свершиться – свершилось.
Больше ничего не будет. Спектакль, который поставила его Туся, закончился.
Сегодня, пребывая в одиночестве, он, как и сестра в последние годы, все чаще и чаще погружался в такие тяжелые, но такие прелестные времена молодости, юной силы и безудержного упорства. Упорства не сомневающегося в своей правоте молодого человека, стремящегося просто жить достойно. Крутые годы непрерывного сопротивления вся и всем! Они, те люди и те годы, были так прекрасны!
И вот все, о чем мечталось, достигнуто! Ура!
На краю могилы.
Но Господь за все его мытарства преподнес Владиславу главный подарок. После того как он, похоронив всех близких, и сам уже подвел черту под своим жизненным путем, Щеголеву было даровано еще двадцать пять лет спокойной жизни!
И эта первая милость пришла именно сейчас, когда все уже было завершено…
Дружба для Саши Щеголева была чем-то святым. Он так и заявлял окружавшим его родителям и знакомым девушкам, претендовавшим, если не на сердце, то хотя бы на его руку – да-да, вот так, не стесняясь, и заявлял в стиле Николая Крючкова: прежде всего друзья, а уж потом девушки и все остальное! И действительно, юный Щеголев, прошедший уже армейскую школу человеческих отношений, считал мужскую дружбу чем-то совершенно незыблемым и не поддающимся сомнению!
О, юношеский максимализм!
Изначально по природе доверчивый и добрый, Александр так и относился к друзьям и людям вообще и, соответственно, ждал подобного отношения и к себе. Конечно, подобная доверчивость граничила с глупостью, но что-что, а глупость Щеголеву была не свойственна.
Заметим, заглядывая в далекое будущее, что он таким и останется до последних дней, хотя много раз разочаруется в отдельных субъектах и набьет себе здоровенных душевных шишек, но все равно будет твердо убежден, что такое отношение к людям является единственно верным. Как-то он сказал при очередной неудаче:
– Этот парень еще не доказал мне, что он плохой человек. Он просто ошибается. И не понимает, что хуже будет, прежде всего, ему. Видимо, еще не успел понять, бедолага…
– Как же ему? – возразили Александру, – пока что тебе! А он и в ус не дует! Ему наплевать, что он подставил тебя!
– Нет, я все равно выйду из положения с какими-нибудь восполнимыми материальными потерями, а он останется навсегда с необратимыми душевными, как бы не хорохорился. Все равно, в любых обстоятельствах, каждый человек, совершивший подлость, понимает, что он подлец. От себя не уйдешь. И улицу при встрече перейдет первым он и руку не осмелится протянуть именно он, а не я. Будете спорить?
– Да черт с ней, с рукой, он тебя на деньги опустил! На приличные деньги!
– А что деньги? Ты думаешь, они ему на пользу? Или мне в убыток? Я что завтра на паперть пойду? А то, что я не стал с ним препираться и не наказал его, хотя мог, не волнуйся, зачтется! И восполнится стократно, спорим?
Тем не менее, несмотря на праведные рассуждения, подобные казусы частенько случались со Щеголевым, и только потом, став зрелым умудренным человеком, он смог реально осознать, что был прав всегда, в то время как очень много его приятелей – здоровых и процветающих, хитрых и ловких, надменных и указующих, сгинули в безжалостном водовороте жизни и большинство из них – навсегда.
А он остался. При своих. При своих друзьях и любимых!
Расхожее выражение: Спокойная совесть – лучшее снотворное! Смешно?
Нет.
Это правда. Щеголев это хорошо знал.
Так вот, вернемся к друзьям.
Друзья у Саши были замечательными, еще школьными. Все ребята жили неподалеку и в разное время, но обязательно, учились в той самой, родной школе. Потом прибавились друзья-художники и музыканты, друзья-коллеги, но тоже верные и надежные, как думал Александр, друзья на всю жизнь!
Кстати вспомнить, ведь выручили Сашку из беды в армии именно друзья, прояснив в КГБ на Литейном истинную ситуацию с «тайными обществами». Саша, вернувшись в Ленинград, узнал, что всех ребят, более-менее причастных к этому «делу», включая Якова Михайловича, вызывали в Большой дом и просили дать разъяснения. Дали. И, что удивительно, им поверили, и как уже потом рассказывал лучший друг Гошка Фадеев, ленинградские чекисты просто посмеялись над бдительными владимирскими контрразведчиками. Одним словом – не имей сто рублей…
И жизнь показала с самого начала, правда, тогда еще жизнь детско-юношеская, что Саша умеет дружить – чего стоит хотя бы их многолетняя дружба с Юркой Петровым!
Но, когда Саша попытается через тридцать лет на рубеже веков отыскать Петрова, он этого сделать так и не сможет…
По недостоверным слухам, Юрка уедет в вожделенную Америку насовсем. Это случится во время вынужденного «отсутствия» Щеголева, и ему было как-то горько от того что они так и не увиделись перед отъездом, и Петров ничего ему не сказал, хотя бы на прощанье.
В туристские походы верные друзья – Пашка, Гошка, Сашка и Игорь Князев, отдавая дань тогдашней моде поисков туманов и запахов тайги, ходили чуть ли не каждую неделю. Для них это было не только модой. Оторваться от зарегламентированной жизни, от забот, да и от опеки родителей и стать совершенно самостоятельными добытчиками было просто необходимо в их возрасте. Мальчишки набирали жизненный опыт! Они добывали провизию, вьючили неподъемные рюкзаки и каждые погожие выходные отправлялись в свою «чудную» деревню, которую они обнаружили при необычных обстоятельствах. Точно, как у Стругацких в «Улитке на склоне».
История была такая.
Встретившись на Финляндском вокзале, ребята сели в электричку и прямо здесь, в последний момент, решили изменить планы и пойти в поход по новым местам, доселе неизведанным.
Вскользь упомянув в разговоре о комплектации рюкзаков, они неожиданно выяснили, что никто не взял никакой провизии. У каждого имелись, конечно, такие чрезвычайно нужные в походе предметы как портвейн, гитара, фонарики, мячи, карты, приемники, но про еду все «забыли», понадеявшись друг на друга. А шли на три дня. Пришлось в Орехове в каком-то ларьке купить самое необходимое, без деликатесов и домашних котлет.
Этим мелким казусом Провидение предупредило наших друзей – не ходите туда, удачи не будет. Но беззаботные и самоуверенные туристы не вняли знаку! Вообще судьба еще не раз будет слать Щеголеву свои предостережения, увидеть и понять которые он не всегда сможет.
От станции решили пойти куда глаза глядят, но на запад, и, пройдя приличное расстояние и преодолев лесные завалы и буераки, остановились у лесного озера на пригорке. Озерцо, находясь в глубокой природной котловине, словно волшебное зеркало, было абсолютно круглым и ясным. Драгоценной оправой ему служили крутые берега, заросшие корабельными соснами и пушистыми сизыми елями. Что-то неуловимо волшебное присутствовало здесь, как в сказках Бажова с их старушками-синюшками и безрадостными сокровищами, а от неподвижной глади воды, подернутой легкой дымкой, веяло не то мрачным финским эпосом, не то былинами о русалках и утопленниках, но было красиво. В разыгравшемся воображении уже слышались гуканье филина и заливистый смех кикиморы. Было пронзительно тихо и покойно.
Путешественники царственно оглядели эти таинственные окрестности и решили, что лучшего места им не найти. Первым делом ребята разбили лагерь и разожгли костер, и он, как полноправный и, наверное, главный участник экспедиции, сразу придал их первобытному становищу обжитой и реальный вид. Слава Богу, предметов культурного досуга было в избытке и друзьям было чем заняться. В конечном итоге, – что может быть прекрасней карельского леса и свободной дикой жизни?! И три дня – с рыбалкой, играми и песнями пролетели незаметно, пора было собираться домой.
Но на обратном пути ребята сбились с направления и заплутали. К вечеру, уже уставшие, они, наконец, набрели на какую-то неизвестную деревню, которой даже не было на «километровой» карте. Но деревня не откликнулась на радостные призывы путешественников. Редкие прохожие на вопросы не отвечали и, отойдя на обочину, молча смотрели на путешественников…
Друзья недоумевали.
А сама деревушка была живописна и ухожена. Она располагалась в зеленой низинке, а на пригорке, сквозь явно парковую растительность, просматривалась белокаменная усадьба. Дорога вилась по обыкновению посередине деревни и, в конце концов, должна была вывести туристов к какому-нибудь общественному пункту – сельсовету, почте или клубу.
Дошли до обязательного магазина – центра культурно-хозяйственной жизни любой деревни. Но и тут особой радости путники не почувствовали. Было пустынно и неуютно. В чем же дело? Ситуация уже и вправду стала действовать на нервы.
Саша зашел в магазин. За прилавком кто-то копошился.
– Здравствуйте люди добрые! – Щеголев проявил все возможное в данной ситуации уважение, – скажите, пожалуйста, хозяева, что за деревня такая у вас нелюдимая? Мы с пути сбились, а нам на станцию надо.
И опять тот же странный взгляд исподлобья!
– А это и не деревня, – откликнулась, наконец «продавщица» и опять скрылась в недрах лабаза. Честное слово, нашим путешественникам уже стали мерещится лешие и всякая другая нечисть. Вспомнилось все русское народное творчество, включая тех же популярных братьев Стругацких – от «Понедельника…» до «Трудно быть…».
Но тут в магазин вошел человек в белом халате и ласково спросил:
– А вы как сюда, на закрытую спецтерриторию, попали, ребятки?
– Что еще за закрытая территория? – Саша не очень удивился, почему-то он был готов ко всему, – заблудились мы в лесу, к станции дорогу ищем!
Повылезавшие невесть откуда «селяне», жались по стенкам.
– А-а, вы – туристы. Понятненько… А я врач. Психиатр. И здесь, к вашему сведению, закрытый психоневрологический диспансер!
– Ну что же, раз так, забирайте нас к себе, если здесь все такое закрытое и безвыходное, никто ничего не знает, и сказать не хочет!
Но дорогу добрый доктор все-таки указал, правда, почему-то, как выяснилось позже, в другую сторону. Ребята, проплутав еще пару часов и уже точно понимая, что начинают прогуливать завтрашнюю работу, заночевали опять в палатках на душистом лапнике. Чем и хороши походы – никаких городских условностей, где хочешь – спи, где хочешь – ешь, а где хочешь и… Правда, еды уже не осталось.
Но на этом злоключения ребят не закончились. Пашка, установив кое-как свою индивидуальную палатку, не пожелал в темноте рубить «фирменный» лапник и проснулся в огромной луже. И, конечно, тут же заболел. Причем серьезно, с высокой температурой, которая ощущалась даже на расстоянии. А до Орехово, наверное, было километров десять. И неизвестно в какую сторону…
Князь залез на самую высокую елку и попытался сориентироваться. Какую-то ЛЭП он заметил, а, следовательно, где-то рядом была цивилизация и железная дорога. Естественно, на Карельском перешейке между двух «морей» заблудиться было невозможно, все равно рано или поздно куда-нибудь выйдешь, но положение становилось серьезным из-за Пашиного состояния. Он буквально бредил.
Ребята разделили поклажу и по очереди на себе понесли Пашу. При этом он брыкался и рассказывал анекдоты. Но сам идти не хотел! Когда его сажали на пенек, чтобы передохнуть, то Паша начинал сильно стонать и закатывать глаза. Вообще-то ему можно было верить, но надо было знать притворщика Пашку, и поэтому ребята периодически высказывали ему свои сомнения в тяжести заболевания. Но делать нечего – друзья познаются в беде!
Одним словом, до станции незадачливые путешественники все-таки дотащили больного. Плюс рюкзаки и мокрые палатки. Но что примечательно, потом они уже ничего никогда не забывали, больше не терялись, а Пашу спасли, чуть ли не от смерти! Видимо хорошо им прочистила мозги Волшебная деревня.
Вот так, казалось бы, в мелочах, и проверяется железная мужская дружба!
Эта юношеская дружба Паши, Гоши, Игоря, Володи Иванцова и Саши еще долгие годы проверялась всевозможными приключениями и происшествиями и, надо сказать, выдержала проверку.
Сашка Щеголев мог вполне гордиться своими друзьями, что и делал. Он сохранил на всю жизнь то чувство полного доверия и уважения к своим друзьям. Даже тогда, когда судьба позже подразвела их пути-дорожки.
А в «чудную» деревню они ходили еще несколько раз. И всегда находили в том необыкновенном мире настоящей мужской дружбы все новые и новые душевные сокровища, и в каждом походе продолжали открывать неожиданные, все новые и новые прекрасные стороны человеческих отношений! И судьба больше не строила им каверзы!