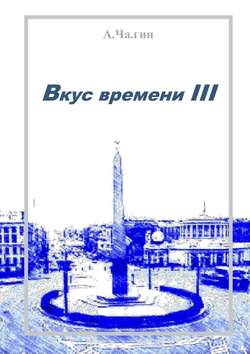Читать книгу Вкус времени – III - А.Ча.гин - Страница 4
III. Всему свое время
ГЛАВА 3
ОглавлениеЭСТАФЕТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Все члены нашей бригады целиком и полностью одобряют решения XXV съезда КПСС. Рады сообщить, что социалистические обязательства, взятые нами в честь партийного съезда, перевыполнены. Наш чабанский коллектив за четыре года выполнил два пятилетних задания. В первом году десятой пятилетки от каждой сотни овцематок мы обязались получить по 165 ягнят, настричь по 6,1 кг шерсти с каждой овцы.
Сейчас в отаре 880 овец. Все чабаны – и Гияс Гулиев, и Иншалы Ахмедов, и Гусейн Гусейнов – хорошо знают свое дело. В бригаде работает и мой отец Гасан. Теперь по традиции принял эстафету чабанского труда и я. В бригаду пришел после окончания школы. Сейчас учусь на четвертом курсе Азербайджанского сельскохозяйственного института.
Ш. Рзаев, бригадир овцеводческой бригады. Азербайджанская ССР.
«Комсомольская правда», 6 марта 1976 года.
Анализируя ситуацию, приведшую сначала к так называемому застою, а потом и к краху всей коммунистической системы, можно заметить, что советские правители во главе с горячо любимым Леонидом Ильичом Брежневым к восьмидесятому году двадцатого столетия полностью утратили чувство реальности и пребывали в каком-то потустороннем, Светлом Будущем, ничего общего не имеющим с действительностью. Весь процесс усугублялся преклонными годами всего руководства Советского Союза и нес легкий шизофренический оттенок. Это было заметно на любом уровне – на обывательском, на профессиональном, на высшем политическом и даже на международном. А частые лобызания генеральных секретарей по любому поводу, говорили о хроническом характере явления…
Но народ и международная общественность наблюдали за происходящим отстранено и, в общем, лояльно. Парадокс заключался в том, что одни просто не могли поверить в это, а другие ни за что не хотели в это верить.
Слишком прозорливому обывателю карательные органы не давали и рта раскрыть насчет критики «объективных» обстоятельств, которые, по мнению властей, лишь временно мешали процветанию. Советские сатрапы всей мощью государственной пропаганды внушали народу, что все идет как надо, а, если и есть трудности, то они легко преодолимы.
Социалистические профессионалы – экономисты и политологи, гораздо лучше видевшие промахи во всех отраслях народного хозяйства, искренне верили в мифические скрытые резервы и нереализованный потенциал системы. Ведь нельзя же допустить, что вся Академия Наук СССР состояла только из одних приспособленцев и временщиков. В случае пересмотра, хотя бы только подходов к решению задач, академикам пришлось бы тут же расписаться в собственной несостоятельности. А этого лучшая экономическая школа – советская, не могла себе позволить.
Как и в любой духовной или гуманитарной области, где отсутствуют точные формулы и непоколебимые значения, апологетам безошибочных советов приходилось опираться только на авторитеты гигантов мысли, в данном случае – классиков марксизма-ленинизма.
Нет сомнения, что любые мудрецы, а тем более – советские, безусловно уверены в своей непогрешимой правоте. Они многолетними трудами подвели незыблемую базу под свои учения, и не существует никаких аргументов, чтобы сдвинуть их со своих позиций. Но все они, высокомудрые ученые, в попытке ухода от проблем бренной жизни и оправдания своего бессилия в этом мире, ссылаются на любые причины высшего порядка или на непостижимые силы вообще.
Весомые «доказательства» найдутся всегда.
И это касается не только коммунистов…
На международной арене проклятые империалисты, наблюдая затянувшуюся агонию Союза, просто по определению не могли допустить, что «эти русские» – идиоты, и что процесс полной деградации советского общества, происходит реально, на самом деле. Все думали, что это очередные происки хитроумной коммунистической пропаганды. Западные спецслужбы в этом тоже были твердо убеждены и никаких других вариантов не рассматривали.
И, наконец, сами теперешние правители страны Советов – Брежнев, Суслов, Андропов и другие, не верили в катастрофу просто потому, что не были ни профессионалами, ни обывателями, ни мудрыми политиками: профессионалами-экономистами или учеными социологами они не были никогда, для обывателя они слишком оторвались от реалий, ну а какие они политики в плановом мире социализма и к чему это привело, всем было известно. И народ, в данном случае, не проведешь. Правители надеялись на очередное чудо в виде субботников, экономной экономики и прочей белиберды. А если не видели проблем, то и мер не принимали. Действенных мер.
Созданная по заветам Ленина, налаженная Сталиным сложнейшая бюрократическая государственная машина со всеми своими «винтиками», основанная на физическом страхе, до сих пор не давала сбоев, выдавала денежную массу «на-гора» и особых тревог, до поры до времени, у самонадеянных разрушителей монархий и культов не вызывала.
Но мир требовал принципиально новых технологий, новых денег, новых мозгов, новых ракет, новых условий человеческого существования, в конце концов. Сталин, каким бы ни был великим стратегом, не мог предвидеть гонку вооружений такого масштаба и выбрасывание денег тоннами прямо в космос. Уровень смекалки его госмашины просто не был на это рассчитан. Он и на стратегическое мышление не был рассчитан, – в ту великую войну, ценой неисчислимых жертв, справился сам народ, может быть, вопреки фельдфебелям-полководцам. А в мирном строительстве дело долгосрочного предвидения ограничивалось пятилетками.
В государстве победившего социализма, кроме колоссальных расходов на вооружение и космос, еще разворачивали могучие реки вспять, строили гигантские ГРЭСы и прочие АЭСы, дарили направо и налево не только латунные советские награды, но и стальные танки, пушки, бомбы, делились со всеми желающими «мирным атомом», продовольствием, раздавали миллиарды долларов «на борьбу с империализмом» и на «братскую помощь» всяким ненадежным иноверцам. Но край пропасти уже был близок и только слепой не мог видеть этого.
Если продолжить перечисления «необходимых» расходов и все суммировать – получится полный бред!
Интересно, хоть кто-нибудь из советских небожителей, обладавший достоверной информацией, сообразил хоть раз взять простую авторучку, тетрадный листочек в клеточку и посчитать в два столбика: здесь – приход, здесь – расход, а внизу – итог. Ну, и уж из «высшего пилотажа», дальше, на основании «итога» – перспективы развития, то есть окончания имеющихся и потенциальных средств…
Куда там, кому это нужно – миллиард туда, миллиард сюда, – а откуда деньги, кто их добывает, где эти самые «закрома Родины», это дело не царское…
Госкомстат дает сводки и хорошо. Все хорошо! Просто отлично! И никак иначе! Коммунистические идеологи и социалистические правители хорошо заучили свой главный аргумент: «этого не может быть, потому что не может быть никогда». Если приглядеться, этот скрытый смысл присутствовал в любом коммунистическом догмате и любом псевдоэкономическом отчете об успешном и досрочном выполнении плана очередной пятилетки, построенном исключительно на взаимном обмане. Никто и не задумывался, кому нужны такие планы и кому, собственно, они втирают очки!
Конечно, масштабы «прожигания жизни» впечатляли. И ведь не придет в голову любому закоренелому империалисту или просто здравомыслящему человеку, что эта великолепная экономико-политическая вакханалия вершится на последние гроши…
Поражает и то, что опять власти не задумывались даже о таких вполне человеческих вещах, как самосохранение и собственная судьба. Уж кто-кто, а власти должны были бы подумать о благосостоянии государства хотя бы в свете собственной безопасности. Так нет! Они, советские руководители партии и правительства, все, как один, дышали на ладан, прости, Господи, и ни о каких перспективах развития чего-либо, естественно, не помышляли. Какое развитие? О чем вы?
И это совершенно очевидно.
Мысли их, если таковые и имелись, направлялись исключительно в спокойное русло безмятежного доживания. А какие еще физиологические желания могут быть у чрезвычайно пожилых людей обремененных огромным хозяйством – любви, счастья?!
Любви к двумстам пятидесяти миллионам граждан?
Да ладно, о своих детях бы подумали…
Бабушка Лиля очень сердилась, когда Саша начинал «провокационные» разговоры о коммунизме. Не то чтобы она была не согласна с доводами внука, но просто с этими убеждениями она прожила всю жизнь и ломать устои на старости лет не желала. На это вообще не каждый способен, да и была ли в этом необходимость. Все шло, как шло, пенсию платили в установленные сроки, все было тихо и спокойно – все боролись «за мир!», с утра она могла себе позволить сходить на базар и купить телятинки, в магазине баночку виноградного соку на завтрак и грамм сто российского сыра. Все прекрасно.
– Кстати, надо пойти похлопотать о надбавке к пенсии, – говорила бабушка, – обещали персональную выправить.
Бабушка Лиля, несмотря на «пролетарские» замашки, была отнюдь не так проста, какой иногда хотела казаться. Не говоря уж об очень обеспеченных родителях, и, в частности, высокопоставленной должности ее отца, Дмитрия Григорьевича, молодая Елизавета занималась балетом и имела хороший голос, что признавали даже специалисты. В свое время она поступила в оперную студию Мариинского театра и встречалась с Шаляпиным и Вагановой, о чем свидетельствовали домашние фотоальбомы.
Тяжелое послереволюционное время разрухи не позволяло особенно шиковать, но Елизавета умела жить. Разумно и экономно. При этом, создавая общее впечатление достатка и благосостояния. Обладая практическим складом ума, она кроме работы в отделе кадров за «хорошую» зарплату, совмещала работу на общественных началах в парткоме вполне в большевистском духе с подпольной индивидуальной трудовой деятельностью по обшиву модными и дефицитными обновами всех своих многочисленных подруг и знакомых. Причем делала это со вкусом, качеством и любовью. В доме всегда имелись последние журналы мод и выкройки лучших зарубежных «кутюрье» всех времен и народов.
И естественно, сама Елизавета и ее дочь Тамара всегда выглядели нарядно и счастливо. А то, какими трудами это достигалось, оставалось за кадром.
До войны уверенность Елизавете Дмитриевне и всей семье придавал, конечно, ее любимый муж – Николай Евдокимович, человек разносторонних взглядов и умений. Николай был медиком и тоже обладал вокальным талантом, на почве которого, видимо, они и познакомились. Впоследствии, когда Родина позвала молодых патриотов под свои знамена, он стал кадровым военным, что еще более повысило статус семьи Николаевых. К тому же родной брат Лили – Иван Дмитриевич, был летчиком и не простым воздушным «извозчиком», а настоящим сталинским соколом и летал вместе с Чкаловым. Правда, в те времена об этом было как-то не принято распространяться. Но когда к Николаевым в гости являлся бравый летчик-орденоносец дядя Ваня, собиралась вся округа и государственная тайна незаметно растворялась в табачном дыму многочисленных разговоров и геройских рассказов. А в те времена межконтинентальных перелетов, спасения челюскинцев, завоевания голубого океана и строительства авиационных армад, рассказать было о чем.
Но вся эта по-советски блестящая история под Марш энтузиастов закончилась трагически. Однажды, испытывая очередной новейший самолет, дядя Ваня разбился…
А война еще и не начиналась.
А когда началась, сразу пропал без вести Николай. Привыкшая к невосполнимым лишениям Елизавета, опять только горестно вздохнула, а Тамара, не смерившись тогда со «смертью» папы, всю свою жизнь пыталась разыскать его следы. И в какой-то мере, после кропотливых поисков и многочисленных поездок, ей это удалось. По некоторым данным, которые получила Тамара, он воевал в Брестской крепости. По крайне смутным сведениям, ее отец после падения крепости попал в плен. Некоторое время, по свидетельству очевидцев, он находился в концлагере в Польше, потом по неподтвержденным, но достоверным данным его перевели в Норвегию и уже там, на скандинавском севере, его следы терялись окончательно.
Тамара разыскала немногочисленных оставшихся в живых, сослуживцев отца, вела переписку с ветеранами обороны Брестской крепости и специально ездила в Брест на встречу с ними. Ей даже выдали удостоверение почетного участника обороны Бреста. Конечно, вся история, которую по крупицам собрала Тамара, показывала, что вероятность увидеть папу живым минимальна, но все равно надежда оставалась. И многие, порой фантастические, рассказы узников фашистских лагерей давали еще большие надежды, так как, оказывалось, что кто-то помнил Николая и видел его в Норвегии, Польше или в Германии, а кто-то уверял, что встречался с ним уже после войны…
И ведь действительно, такое вполне могло произойти, – никто из близких не знал, чем занимался на самом деле Николай Евдокимович ни до, ни во время войны. Может быть, он был законспирированным разведчиком, думала Тамара. Тем более что тогда, в блокаду, случилось странное происшествие как доказательство этой версии, – их квартиру обокрали, причем, не взяв ничего ценного, «воры» позарились только на семейные архивы и фотографии. Но, к сожалению, чуда не произошло, и новых вестей о Николае Евдокимовиче так и не нашлось.
Господи, думала дочь, где бы ты ни был, папа, я жду и люблю тебя!
Но все было не так.
В далеком будущем Александр Щеголев, вооруженный новыми компьютерными технологиями, свяжется со всеми архивами, вплоть до Архива Министерства Обороны, и доподлинно выяснит, что Николай Евдокимович, его дед, пропал без вести в феврале 1942 года на Ленинградском фронте. Но он ничего не скажет своей маме, и она тихо умрет в твердом убеждении, что ее папа жив.
И опять странное стечение обстоятельств и переплетение судеб: через всю Польшу, первую страну, где как верила Тамара содержался в плену капитан Николаев, по пути из Алтая в Берлин прошел с боями Владислав Щеголев и, наверное, мог бы освободить своего будущего тестя, если бы только все было так, как нам бы хотелось.
Но и это еще не все. В то же самое время, то есть в победном мае 1945 года в Берлине находился и будущий тесть Саши Щеголева, отец Али, – Василий Михайлович, и он вполне мог встретиться там у рейхстага с Владиславом Александровичем. Такие жизненные коллизии, связавшие родных для Саши людей, вызывают, по крайней мере, удивление. Когда случайные стечения обстоятельств превышают определенный допустимый предел, то они уже становятся структурированной системой.
Или Судьбой…
Судьбой Человека.
А бедная Лиля и Томочка, не подозревая о промысле Божьем, всю нечеловеческую войну так и пробыли в Ленинграде. Пережили страшную блокаду, работали, голодали, но, все-таки не теряли надежду встретить своего папу Колю. Они очень его ждали и верили в чудо.
Пришло освобождение, пришла большая Победа, началась мирная жизнь, а весточки все не было. Так Елизавета и осталась одна. Она всю жизнь хранила память о своем Коле, иногда рассказывая о нем внуку Саше и горько вздыхая о таком уже далеком и недолгом счастье, которое, как и время, уже было не вернуть никогда.
А пока настанет неотвратимое будущее, которое приоткроет многие тайны, события развивались своим размеренным и неспешным образом. На Сашиной работе в Зональном институте по поводу какого-то праздника распределяли бесплатные путевки, и Щеголеву, как отличнику агитации и пропаганды, досталось путешествие по Волге, но не на пароходе, а… на поезде.
И то хлеб! Во времена процветающих профсоюзов, путевки были в моде. Тем более, бесплатные. Предстояло провести неделю на колесах и объехать все Поволжье. Путешествие казалось интересным, и Саша с удовольствием собирался в поход. Правда, на дворе стояла лютая зима, но трудности пока не смущали. Проводы были недолгими, и вот уже поезд спешит на восток!
Александр знал, что самые трудные тридцатые годы отец провел в ссылке в Куйбышеве, и ему хотелось посмотреть на город, где прошла предвоенная молодость отца. Владислав Александрович вообще не любил много рассказывать о своих злоключениях. Только о достижениях. Он был убежден, что Щеголевы всегда должны держать марку. И был прав, по- своему.
Волга была скована могучим льдом. Вздыбившиеся колоссальные льдины вставали гребнем чудовищ, а снежные ветра окончательно придавали безбрежной волжской равнине фантастический вид. Поезд прогрохотал по мосту и вскоре прибыл на станцию Куйбышев.
Вокзал, площадь, трамвай.
Мирные, обычные люди, занятые своими делами, снующие автомобили, кружащийся легкий снег – жизнь продолжалась как ни в чем не бывало, и никаких ежово-бериевских застенков не просматривалось. У Саши, благодаря скудным рассказам отца и многотомным романам Солженицына, невольно выработалось ощущение чего-то темного и барачного, ожидание хмурых личностей в шинелях и пьяных извозчиков.
Ничего этого не было!
Был светлый зимний город на берегу великой реки.
А река, действительно была велика и величава. Даже несмотря на сковавший ее мороз, Волга производила необычайное впечатление, прежде всего, своей широтой. Она раскинулась как море, и противоположного берега было не видно. Обрывистый, высокий яр был огражден парапетом и, стоя перед речным простором, Саша подумал, что вот так все семейство Щеголевых и в мороз, и в жару, и вскользь, проходя мимо и любуясь этим сказочным видом, всматривались в волжскую даль, ожидая решения своей судьбы.
Иных уж нет, а те далече…
Путевка предусматривала ознакомительные экскурсии, но Александр не поехал с группой. Он решил побродить по отцовскому городу один, попытаться понять сущность души волжского пристанища Щеголевых, и попробовать вжиться в то далекое время.
Куйбышев, конечно, должен был измениться с тех незапамятных времен, но по духу остался тем же старинным городом, имевшим когда-то другое имя – Самара. Главная улица была характерным примером: среди сталинских помпезных, монументальных сооружений, вроде Института Оргэнерго на широкой площади и других новоделов, оставались старые купеческие дома и особняки, которые и придавали Самаре исконно русский вид.
Ну, естественно, не обошлось без памятников Ленину и Куйбышеву, причем, одной «руки» – скульптора Манизера, певца социалистической родины и ее вождей. Памятники были предельно традиционными, без полета фантазии и таланта. Голый коммунистический апофеоз.
И Саша подумал, глядя на бронзовых колоссов, что переставь головы монументам, никто бы этого и не заметил, даже сам прославленный ваятель.
Памятники, как памятники, какие стоят во всех городах, поселках и просвещенных деревнях Страны Советов. Народ должен знать своих вождей! А что же еще может вдохновить творца в этой злосчастной стране, как не светлые и одухотворенные лица создателей Союза нерушимого? Озабоченные и хмурые лица ссыльных и заключенных или простых тружеников и обывателей? Конечно, нет! Ленин с Куйбышевым, стоя на пьедесталах, озирали дела рук своих. Будто только они знали что, когда и кому надо делать и как жить. Но они явно посягнули на чужую компетенцию и, вследствие этого, оба закончили свои дни преждевременно.
Саша прошел по набережной, вышел на какую-то улицу и попал… в такой знакомый Владимир – те же двухэтажные, снизу каменные, сверху деревянные домики, высокие заборы, и заросшие заснеженными яблонями сады…
Но становилось все холоднее, и морозный ветер с Волги заставил Сашу зайти в какое-то типовое серокирпичное, застекленное кафе, где он заказал рюмку коньяку, чай и бифштекс – все, что там и было в меню на сегодня. Гуляя по городу, он и не заметил как продрог и только сейчас в тепле и уюте этого заведения общественного питания, Сашу охватил сильный озноб. Зуб на зуб не попадал.
Негнущимися пальцами Саша достал папиросы и закурил. Боль в ломивших руках и ногах немного отпустила, и коньяк, поданный задолго до всех других блюд, окончательно привел Щеголева в чувство.
Неласково встречает своих гостей Самара-городок.
Да зачем я так, подумал Александр, – невольное предубеждение, а город красивый, широкий, привольный и неожиданно большой. Саше так и не удалось, как он рассчитывал, выйти на окраины. И кафе хорошее, и мясо вкусное, и чай горячий. Все нормально. Жизнь идет своим чередом.
Вечерело. Саша вышел на улицу отдохнувший, согретый и направился на вокзал, где стоял их туристский поезд и где его ждал еще путевочный ужин.
Он спросил у прохожего дорогу и тот посоветовал проехать на трамвае – до вокзала оказалось далековато.
Много же я прошел, и, наверное, мои пути хоть раз да пересеклись со следами других Щеголевых, всех моих родственников, думал Саша, глядя в обледеневшее окно трамвая. Он рукой растопил себе маленькое смотровое окошечко и наблюдал за скользящими тенями вечернего города.
И, безусловно, след жизни каждого человека записан на полотне земли невидимыми строками навсегда…
Эля Максович Монастырский, в простонародье – Олежка или официально Олег Максимович, был бригадиром художников на заводе «Северный стан». Это был профессиональный художник-шрифтовик, мастерству которого мог позавидовать сам Вилу Тоотс. К тому же, Олег обладал импозантной внешностью: пронзительные черные глаза, нос с горбинкой, курчавые длинные волосы в стиле «афро», усы и борода делали его похожим на врубелевского демона, но улыбка и некоторая растерянность во взгляде превращали грозного бригадира в достаточно мирное создание. Даже имея такой антиобщественный облик, Монастырский никогда не опаздывал на режимное предприятие, выполнял все работы в срок, с отличным качеством и был по общему мнению добросовестным трудягой.
Наверное, именно за это свое ответственное отношение к работе он и был поставлен начальником ватаги ненадежных и легкомысленных людей, каковыми в администрации завода считались художники. Нет, конечно, к ним относились со всем уважением и трепетом, как к любому творческому коллективу, но художники и есть художники, и они плохо вписывались в производственный процесс и план по выпуску секретной военной продукции. А наглядная агитация, что всем известно, была жизненно необходима для любого советского производства как воздух и, поставив дядькой надежного человека, заводской треугольник (дирекция, партком, завком) могла спать спокойно.
Александр Щеголев, недавно перешедший работать на «Северный стан» в заводскую мастерскую, куда его перетащил Серега Огольцов, как раз и дополнил художественную бригаду, в которую еще входили сам Сергей, упомянутый выше Олег и уже известный цеховой слесарь-художник Сашка Забродин. Дождавшись из Москвы допуска на секретный объект, Щеголев с увлечением включился в художественно-производственный процесс.
Работа состояла в основном из написания на огромных подрамниках социалистических обязательств цехов и участков, транспарантов с коммунистическими призывами и рисовании всевозможных портретов Ленина, за которые, правда, хорошо платили. Надо сказать, что ребята не довольствовались тупым переписыванием текстов и штампованием трафаретов, а вносили эстетические элементы в скучные таблицы, спихивая писанину Олегу. А тот с удовольствием и упоением аршинными буквами начертывал тексты примерно следующего содержания:
«Выполняя решения ХХIII съезда КПСС, положения отчетного доклада генерального секретаря ЦК КПСС Л.И.Брежнева и тезисы апрельского пленума ЦК КПСС и идя навстречу 60-летию Великого Октября коллектив цеха №5 взял на себя повышенные социалистические обязательства:
– Всесторонне изучать Решения ЦК КПСС…
– Претворять в жизнь Решения…» и так далее.
Такие обязательства выполнялись в цвете на загрунтованных фанерных планшетах размером примерно метр на метр, которые надлежало вывешивать в каждом цеху, участке или отделе. Это дело строго проверялось партийными органами и, не дай Бог, у кого-то не окажется подобного произведения. Поэтому простые начальники цехов и участков очень ценили художников, и, в частности, испытывали глубокое уважение к Олегу Максимовичу, которое выражалось в снабжении бригады спиртом и денежными премиями.
Для более полного восприятия массами ценных указаний партии весь этот бред обязательно украшал, как художественная составляющая агитации, портрет В.И.Ленина на фоне знамен, Спасских башен и Дворцов съездов.
Но работа не была такой однообразной, как может показаться – то и дело возникали какие-нибудь неожиданные интересные заказы. Так, например, причиной перехода Щеголева на завод явилось празднование 30-ти летия Победы, к которому на заводе по тогдашней партийной моде решили поставить памятник. Конечно, память о погибших должна храниться вечно, но то, как массово и по приказу «сверху» осуществлялось это мероприятие, вызывало некоторые сомнения в искренности идеологических начальников. И потом, подобные памятники все-таки должны создавать заслуженные и талантливые профессионалы, а не случайные люди. На счастье «Северного стана», такие, несомненно талантливые люди, на заводе нашлись. Сергей и Александр составили костяк творческой группы и они, ответственно подойдя к столь важному делу, создали проект целого мемориального комплекса подстать городскому. Щеголев, нахватавшись на прошлой работе архитектурного апломба, смог по всем академическим канонам создать и оформить проект. Даже с макетом в масштабе 1:10. И они, естественно, победили в заводском конкурсе. Теперь нужно было, как тогда говорилось, воплощать планы в жизнь!
Исключительно своими силами.
И ребята, забыв про все остальное, принялись за ваяние. Работа была хоть и грязной, но действительно интересной – попробуй-ка воздвигнуть на пустом месте мемориал высотой 7 метров и размахом в 10 с многочисленными барельефными фигурами, постаментом и самоей гранитной стелой. Конечно же, под руководством парткома, завкома, дирекции и лично дорогого парторга товарища Таратухина. Кроме родной партии, художникам помогал весь завод, тем не менее, основную работу и главную ответственность вытягивали они.
Олег тоже вносил посильный вклад, главным образом заменяя ребят на текстовом поприще и подпитывая их бесплатными талонами на обед и цеховым спиртом. И вообще, он был мастак на добычу. Следуя традициям своей нации и используя родовые таланты, он мог достать все: от любых сумм денег до дефицитных продовольственных наборов в неограниченном количестве. Причем в любую минуту. Сережа с Сашей частенько пользовались этой его способностью, провоцируя бесхитростного Олега «на слабо».
Монастырский жил в центре, на Пестеля, и друзья, провожая его домой, иногда перехватывали у бригадира в долг пятерку-десятку, которые он доставал из кармана с ловкостью факира. И всегда безотказно. За что и ценили. А иногда ребята заходили к нему в гости продолжить «творческий процесс». Олег был женат на заводской же работнице и имел очень симпатичную дочку Машу. У нее были огромные карие глаза и очень светлые длинные волосы. Жена, если друзья не частили, относилась к ним лояльно, никогда не выставляла веселую компанию за порог, а даже приглашала к обеду.
Художественная мастерская на заводе, находившаяся на отшибе, была неким клубом, где собирались истинно лучшие люди производства. Помимо Саши Забродина, который сбегал из цеха для выполнения творческого задания, у художников вечно пропадал инженер ОТК Леня Воробьев, интересный и общительный молодой человек. Он был уже в «возрасте», лысоват, немного тучен, и до сих пор не женат, что составляло его главную проблему. Леня имел хорошую зарплату, отдельную квартиру и маму, работавшую врачом в КГБ (хотя бы с этой стороны друзья были прикрыты!). И, несмотря на столь очевидные преимущества, с женитьбой Лене не везло. Как показали дальнейшие события, может быть это было и хорошо, хотя как знать…
Используя свою отдельную квартиру, он приглашал художников к себе на дни собственного рождения, а также на дни рождения Октябрьской революции, Ленина, Клары Цеткин и Розы Люксембург и все прочие общегосударственные праздники. Веселье гремело!
Леня Воробьев был добрым и хорошим парнем, но кончил плохо и трагически. Заболев однажды безобидной ангиной, Леня получил фуникулярное воспаление и скоропостижно скончался. Саша, когда ему спустя несколько дней сообщили об этом, не мог поверить, что цветущий и жизнерадостный парень вот так случайно умер. И никто не смог или не успел помочь. Даже его мама врач из Комитета.
Совершенно неестественная и жуткая история.
Но все шло своим чередом, время летело. И уже в других временах веселая команда распалась. Дружные художники разлетелись кто куда, и только аккуратист и семьянин Саша Забродин остался верен «Северному стану» до самой… нет-нет, до момента своей полной профнепригодности вследствие чрезмерной и непобежденной тяги к спиртосодержащим жидкостям. ХХI век Забродин – красивый высокий парень, в прошлом отличный рок-музыкант и скрупулезный художник, мастер-электронщик высшего разряда встретил в облике и фартуке дворника. И общаться с ним можно было только с утра. Никто и не общался. Просто не успевал.
Рассчитавшись с заводом и семейными обязанностями, Сергей Огольцов исчез в каких-то Киришах, где, как он тогда считал, нашел золотую жилу в местных художественных мастерских. Серега съехал из Ленинграда и окончательно пропал с горизонта, по крайней мере, со Щеголевского. Потом, много позже, они, старые друзья, прошедшие вместе в буквальном смысле огонь, воду и медные трубы, вновь встретятся, но золоторудных следов на Огольцове уже не останется.
Олег, расставшись с родным предприятием, казалось бы, нашел вольную и денежную работу гравера в Доме свадебных торжеств, но блеск в глазах пропал. Он больше не был бригадиром. Так случилось, что вскоре умерла его жена. И они остались с Машей одни. Монастырский немного съежился, но не сдался и продолжал с еще большим остервенением гравировать все, что видел. Теперь он гравировал не только дарственные жетоны, медали и автомобили, но и надписи на надгробных памятниках.
И вот, когда он дошел до оформления надгробий, смерть подстерегла и его.
Олег Максимович Монастырский болел очень тяжело и долго. Со свойственным ему оптимизмом и упорством он изо всех сил боролся за жизнь. Но все же умер. Ему было всего 45 лет. И его похоронили рядом с женой, так как он по своей обычной предусмотрительности заготовил и себе место заранее. Только Олег не думал, что настолько он прозорлив и заготовка так скоро понадобится. У него и табличка была выгравирована. В шутку, без даты…
Маша Монастырская осталась совсем одна. Но она уже выросла и стала взрослой девушкой. Как помнил Саша, Олежка так гордился своей златовласой дочкой.